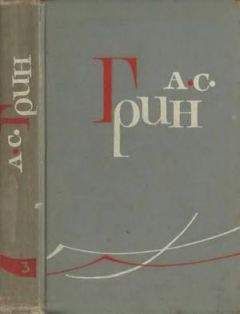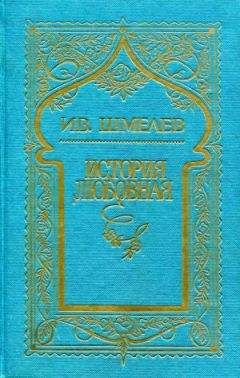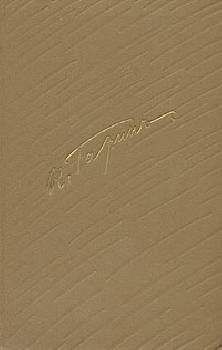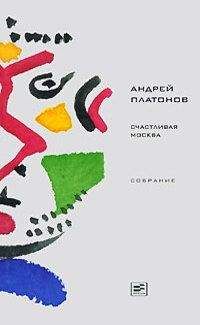Гайто Газданов - Том 3. Романы. Рассказы. Критика

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 3. Романы. Рассказы. Критика"
Описание и краткое содержание "Том 3. Романы. Рассказы. Критика" читать бесплатно онлайн.
В третий том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика русской литературы, вошли романы «Возвращение Будды» и «Пилигримы», рассказы, литературная критика и эссеистика, а также выступления на заседаниях масонской ложи. Произведения написаны в 1944–1960 гг.
А вот петербургский чиновник Орлов из «Рассказа неизвестного человека». В письме, которое оставляет ему революционер, служивший у него лакеем, – для этого у него были свои причины, – революционер пишет: «Отчего вы, не успев начать жить, поторопились сбросить с себя образ и подобие Божие и превратились в трусливое животное?..» «Вы похожи на дезертира, который позорно бежит с поля битвы, но чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью». И дальше, в том же письме: «Отчего мы утомились? Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами потрет свой чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищем другого?» А вот другой чиновник, герой рассказа «Анна на шее», резонер, скупец и подхалим; он женится на бедной девушке, которая гораздо моложе его, считает каждую копейку, делает ей выговоры и потом вдруг, на балу, она покоряет начальство мужа, Его Сиятельство. На следующий день, после бала, к ней входит ее муж.
«И перед ней так же стоял он теперь, с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных; и с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово: – Подите прочь, болван!»
Героиню рассказа «Княгиня» революционер из «Рассказа неизвестного человека», вероятно, тоже назвал бы трусливым животным и был бы недалек от истины. Княгиня живет в состоянии блаженного умиления перед собственной добротой, перед тем, как все ее будто бы любят, – не желая видеть того, что люди перед ней заискивают потому, что они от нее зависят.
Цитаты можно продолжать без конца. Герои Чехова – или воры, мерзавцы, подхалимы, звери, глупцы и трусливые животные – или люди порядочные, но сознающие свое бессилие что-либо изменить в этом порядке вещей. Правда, есть исключения – Лида из рассказа «Дом с мезонином», которая твердо верит в пользу того, что она делает для народа, и которая так же самоуверенна, как и неумна. Лев Шестов, кажется, сказал, что все, к чему прикасается Чехов, увядает, и в этих словах есть что-то чрезвычайно глубокое и правильное. Вот доктор Старцев, Ионыч, который начинает с романтической любви; но из любви ничего не выходит, и Ионыч быстро забывает о ней, полнеет, богатеет и превращается в человека, раз навсегда утратившего способность к сколько-нибудь «возвышенным» чувствам.
Есть у Чехова рассказы о любви – тот же «Дом с мезонином», «Дама с собачкой». Рассказы прекрасные, но всегда неизменно печальные: не так сложилась жизнь, не то вышло, что надо, и этого нельзя изменить, и это бесконечно грустно. Другими словами, там, где могло бы быть подлинное счастье, единственная, неповторимая любовь, там между людьми, которые были созданы друг для друга, возникают непреодолимые препятствия – и остается только плакать и жалеть о том, что могло бы быть и чего нет, и чего конечно никогда не будет.
Вот, в нескольких словах, то впечатление, которое должен испытывать читатель Чехова. Но чем больше проходит времени, тем отчетливее выступает перед нами Чехов. Странно сказать, что в те времена, когда он жил, говорили – Чехов и Потапенко, Чехов и Глеб Успенский, Чехов и Баранцевич. Время исправило эту ошибку. Теперь о месте Чехова в русской литературе спора быть не может, хотя в свое время критик Скабичевский и предсказывал, что Чехов умрет в пьяном виде под забором (удивительный пример литературного суждения). Говоря о том, как писал Чехов, следует, может быть, заметить, что он был одним из очень немногих русских авторов, которого можно назвать словом maitre, – не знаю русского слова, которое соответствовало бы этому понятию. Его язык – необыкновенно точный, выразительный, каждое слово стоит именно там, где нужно, у Чехова безошибочный ритм повествования, непогрешимый в своем совершенстве. Надо сказать, что этим русская литература не избалована: в ней были или гении, как Гоголь, Достоевский, Толстой, или второстепенные писатели, которые чаще всего плохо представляли себе, что такое литературное искусство.
Чехов не любил «мировоззрений» и не любил ни громких слов, ни повышенного тона, ни выставления напоказ своих чувств, ни надрыва, ни преувеличений. Горький рассказывает, что когда при нем какой-то русский интеллигент жаловался – «рефлексия заела, Антон Павлович», Чехов ему ответил – «а вы водки меньше пейте». Но несмотря на то, что Чехов всегда писал простым языком о самых простых вещах, его творчество – все те же вечные трагические и неразрешимые проблемы, вне приближения к которым не существует ни подлинного искусства, ни подлинной культуры. Что такое мир, в котором мы живем? Что такое жизнь? Что такое наша судьба? Можно ли найти какое-то гармоническое построение в этом бесконечном множестве противоречивых начал? Можно ли найти оправдание тому, что мы видим и знаем? Что такое смерть? Что такое любовь? Что такое мораль? Что такое зло?
Я намеренно упрощаю все в этом перечислении. Все это конечно, бесконечно сложнее. Но это именно то, над чем человеческая мысль бьется тысячелетия. И вот Чехов, всем, что он написал, как бы говорит: «Таким я вижу мир». То, что описывает Чехов, не похоже на чудовищный бред гениального Гоголя. Это также и не Раскольников, сравнивающий себя с Наполеоном, не Иван Карамазов со слезинкой ребенка и легендой о Великом Инквизиторе, не князь Андрей на Аустерлицком поле. Все, что описывает Чехов, гораздо проще, прозаичнее, это обыкновенная жизнь обыкновенных людей. Но все это совершенно безнадежно – и в каком-то смысле похоже на письмо мальчика, который живет у сапожника и пишет «на деревню дедушке». Пожалуй только, что в отличие от мальчика, Чехов знает, что никакое обращение ничему не поможет и никуда не дойдет.
Вернемся к повторению старой истины: для того, чтобы знать, что такое зло, надо знать, что такое добро. Конечно, если бы Чехову нужно было ответить, каким, по его мнению, должен бы быть мир, у него не возникло бы затруднений, и он, конечно, мог бы построить систему положительной морали, даже в самом обыденном смысле слова, хотя бы той положительной морали, которая определила его собственную жизнь. И если, по словам Страхова, Достоевский был чем-то вроде соединения Федора Павловича Карамазова со Свидригайловым, то Чехов не был похож ни на одного из своих героев. Есть у Чехова страницы, где он как бы вырывается на короткое время из того безотрадного мира, в котором живут его герои, и где он пишет о лучшем, как он себе его представляет. Это, например, «Степь», «Архиерей». Следует, однако, подчеркнуть, что содержание и того и другого рассказов символично: герой «Степи», которая ничем не кончается, – мальчик Егорушка, и мы не знаем, какой будет его жизнь. А архиерей умирает.
В течение последних десятилетий необыкновенное распространение получил тот вид деятельности, который в России называется литературоведением. Никогда не печаталось такого количества биографических материалов, писем, воспоминаний современников, разъяснительных статей и т. д. Никогда не выходило столько книг под заглавием: «Творчество такого-то, творчество такого-то». Иногда материалы этого рода бывают чрезвычайно интересны и ценны. Но катастрофа начинается обычно там, где начинаются попытки объяснить, почему такой-то автор написал такую-то вещь и как бытовые условия или личная биография определили облик того или иного писателя или характер его творчества. Талант и гений – явления по своей природе необъяснимые. Возьмите миллион человек, заставьте каждого из них родиться в семье Чехова или соседа Чехова, в I860 году, в городе Таганроге, заставьте каждого из них кончить среднее учебное заведение, потом приехать в Москву и поступить на медицинский факультет, – словом, поместите каждого из них в совершено такие же условия, в которых жил Чехов. И потом посмотрите, кто из них напишет «Мужики», «Степь», «Палата номер шесть». Как-то, во время литературного разговора, один из моих друзей сказал: «Если бы Толстой не участвовал в обороне Севастополя, он не мог бы написать „Войну и мир“». Об этом я не берусь судить, да и вообще нет ничего более опасного в таких вещах, чем сослагательное наклонение. Но то, что я знаю – это, что никто из защитников Севастополя, кроме Толстого, не написал «Войны и мира» и никто не мог бы написать.
Чехов не мог бы так хорошо знать русский народный быт, если бы не был врачом – совершенно верно. Но какие другие врачи, которые тоже прекрасно знали этот быт, написали бы то, что написал Чехов? Нет, его биография – повторяю – его творчества, конечно, не объясняет и не может объяснить. И если надо непременно оставаться в пределах этой схемы – жизнь и творчество то, я думаю, более правдоподобным кажется утверждение, что не жизнь Чехова определила его творчество, а его творчество определило его жизнь. Как все замечательные писатели, он слишком много увидел, слишком много понял, слишком много создал. У него не было тех титанических сил, которые объясняют удивительное долголетие некоторых гениев – Тициана, Микеланджело, Гете или Толстого. Тот груз, который он поднял, – вся эта бесконечная русская печаль, вся безвыходность этой бедной жизни, вся эта безнадежность, это сознание, что ничего нельзя изменить, – этот груз был слишком тяжел для него, и он не выдержал, надорвался и ушел, не оставив в том, что он написал, ни надежд, ни обещаний лучшего будущего.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 3. Романы. Рассказы. Критика"
Книги похожие на "Том 3. Романы. Рассказы. Критика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Гайто Газданов - Том 3. Романы. Рассказы. Критика"
Отзывы читателей о книге "Том 3. Романы. Рассказы. Критика", комментарии и мнения людей о произведении.