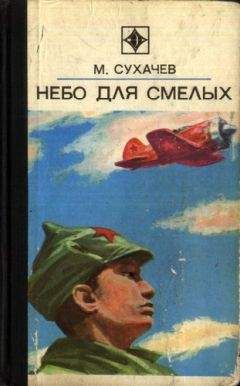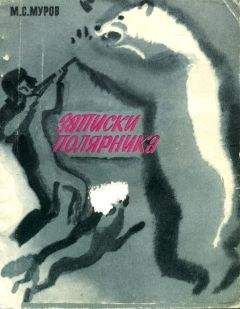Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала
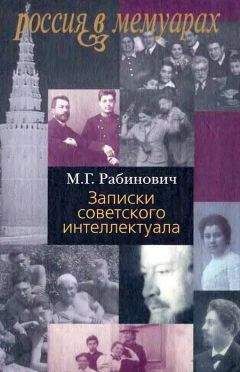
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Записки советского интеллектуала"
Описание и краткое содержание "Записки советского интеллектуала" читать бесплатно онлайн.
Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) — известный археолог и этнограф. Публикуемые воспоминания, в которых неразрывно переплетаются лирика и юмор, отражают различные этапы жизни страны и его жизни: учеба в горно-химическом техникуме, работа мастером на руднике в годы индустриализации, учеба на историческом факультете МГУ, военная Москва, руководство раскопками в Зарядье и в Кремле, кампания борьбы с «космополитизмом», работа в Музее истории и реконструкции Москвы и в Институте этнографии. Перед читателем проходят родственники и друзья автора, известные писатели и ученые (В. Каверин, Е. Дорош, А. В. Арциховский, М. Н. Тихомиров, С. Д. Сказкин, М. Я. Гефтер и др.).
До знакомого вокзала поезд не дошел. Остановился в Григорове, где уцелели еще какие-то дома и размещалось руководство вновь созданной Новгородской области. Жили тесно. Меня поместили в большой комнате, которую занимали пять секретарей обкома комсомола (один — с женой), а кроватей было всего пять — я спал на кровати секретаря, уехавшего в командировку. Но поразило меня не это, а то, что кормили по тогдашним понятиям даже роскошно. Я-то думал, что здесь трудно прежде всего с едой, и взял, что мог, из Москвы. Но ничего не понадобилось. Кажется, за всю войну я не ел так изысканно, как в этой обкомовской столовой.
Каждый день читал по 2–3 лекции. Сначала персоналу обкома, пропагандистам, потом — непосредственно в общежитиях, временных мастерских. Слушали на редкость внимательно, задавали вопросы, иногда даже спорили: «А мне говорили или я читал то-то». Особенно много о том, почему Новгород — по сравнению с чем он уже в те древние времена был новый? Вот есть же Старая и Новая Ладога, а Старгорода нет же. Видно, много ребят было из области.
Рабочим лекции читались, конечно, после смены, так что возвращался я поздно. Зато короткий осенний день бывал иногда свободен. Надо ли говорить, что при первой возможности я пошел «в город»?
Но города не было. Он был не просто разрушен. Он зарос сорняками, поднявшимися выше человеческого роста: немцы не разрешали тут жить, а почва пожарища плодородна. Кое-где между зарослями чертополоха и иван-чая виднелись надписи: «Улица разминирована». От деревянных домов остались лишь печи с нелепо торчащими трубами. А вокруг печи лежал брошенный скарб: кастрюля, утюг, швейная машина. В какой же, должно быть, крайности покидали люди свой дом, если бросили даже такую ценность, как швейная машина!
Каменные здания в развалинах. Кремль, София, Никола на Дворище — все с зияющими пробоинами, обвалившимися углами, пробитыми крышами. В церкви Спаса на Ильине поперек фрески Феофана Грека нацарапано мелом: «Evviva la division!»[132] Здесь стояла испанская Голубая дивизия. И самое ее название отозвалось во мне издевательством над голубым колоритом древнего художника.
Трудно было найти даже перекресток улиц, где мы жили когда-то: ориентиром были только полуразрушенные церкви. Город моей юности был растоптан сапогом врага.
Такого я не видел даже в Смоленске: там сохранились хоть коробки домов, и подъезжающему казалось, что город почти цел. И немцы (впрочем, я употребляю это слово в собирательном смысле — среди пленных, вероятно, были и другие национальности — те же испанцы, что писали на фресках) держались тут совсем иначе: все же много времени прошло. В Смоленске они работали за колючей проволокой и кидали на прохожих яростные взгляды. В Новгороде я впервые увидел колонну военнопленных в оборванных зеленых шинелях с коромыслами на плечах. Они возвращались в свой лагерь, набрав воды. Охраны не было, но строй держали довольно четкий.
— А и не надо охраны, — сказали мне. — Никто-о не убежит. Как только посмеет отделиться от колонны — тут ему и каюк. Местные жители крепко на них сердиты.
Немцев было множество — их заставляли восстанавливать то, что разрушили.
Мне довелось присутствовать на открытии памятника «Тысячелетие России»[133]. Когда-то эта величественная и вместе с тем изящная многофигурная композиция Микешина была украшением города. Арциховский любил водить нас вокруг памятника, объясняя, кто из деятелей русской истории изображен и почему именно так. Комментарии его были чуть ироничны, как и полагалось в те годы, когда отрицательно относились к царям и придворным. Например, Артемий Владимирович объяснял, почему Сусанин изображен коленопреклоненным — не сидеть же мужику рядом с боярами (и, кстати, почему на памятнике Мартоса[134] Минин стоит, а Пожарский сидит). Немцы разрушили памятник тысячелетия, но вывезти для переплавки (ведь сколько бронзы!) не успели. И крупные фигуры валялись на площади. Их простертые руки оказались воздетыми к небу, как бы взывая об отмщении. Так мы видим их на известной картине Кукрыниксов[135]. Понятно, что теперь большое значение придавалось восстановлению памятника. Его удалось собрать целиком, кроме надписей с именами изображенных. И вот я вожу вокруг памятника комсомольских секретарей, объясняю им, кто где изображен и почему именно так. Как последователь своего учителя. Но кто-то из слушателей уже вежливо меня поправляет, клоня к тому, что правители России, в общем-то, были хорошими. А я не спорю. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.
На открытие ждали академика Грекова, но он не приехал, и собственно исторического введения не было. Речь на митинге произнес какой-то генерал-майор в голубых погонах — дельную, толковую. Потом в общежитиях был праздник, наверное — не без выпивки. Лекций, конечно, не было, и, бродя вокруг Софии, я увидел, что молодежь «гуляет» совсем по-деревенски. Молодые парнишки шли стайкой, впереди — гармонист. Орали непристойные частушки. Должно быть, эти приехали из деревни. Те, кто еще не дорос до призыва, помогали восстанавливать Новгород.
И еще одно впечатление. Приехав по командировке ЦК комсомола, я с первого дня стал для местного руководства «товарищем Рабиновичем из ЦК». Видит бог, лавры Хлестакова меня не прельщали. Но, как оказалось, жива еще была хлестаковская клиентура! На лекции меня сопровождала обычно очень приятная молодая дама — секретарь горкома комсомола. Иногда нам давали машину, а когда нельзя было проехать, приходилось месить осеннюю грязь, переправляться через развалины. Вот как-то, выбрав минуту, когда мы шли по относительно твердой дороге (может быть, это был кусок мостовой), она сказала, что имеет ко мне просьбу.
— Когда вернетесь в Москву, скажите, что видели меня здесь и кем я работаю. Ведь я — работник областного масштаба, в Москве меня знают. Напомните обо мне, пожалуйста!
Тщетно уверял я ее, что никого из московских руководителей не знал. «Ведь раз вас привлекли к этой работе, наверное, вас уважают. Скажите, не забудьте!» — прямо-таки местный Добчинский.
Пришла пора уезжать, и меня принял первый секретарь обкома комсомола Сехчин. Как раз в тот момент его обследовала какая-то комиссия, тоже комсомольская. Видимо, интересовались, как он наладил в разрушенном городе собственно учрежденческую обстановку. Входя, я услышал:
— И вели вынуть пружины из своего кресла, если не хочешь получить геморрой!
Сехчин, полный, статный мужчина старше меня, прервал этот разговор, выслушал, сколько и где я прочел лекций, и на прощание поинтересовался, какое впечатление произвел на меня город. И когда я сказал, словно сломался какой-то лед; он начал расспрашивать меня, как я думаю ехать обратно, и посоветовал:
— Через Чудово не ездите — там ждать поезда почти сутки. Езжайте через Ленинград — у нас прямой поезд, — а там зайдите в обком. Мы вам письмо дадим. Они все вам сделают. Сережа, распорядись, чтобы в столовой дали чего-нибудь на дорожку! Говорите, еще домашний запас цел? Вот как у нас принимают! Ну, не хотите — не надо.
Получив блистательный отзыв о лекциях, я ехал в Ленинград со всем доступным в то время комфортом.
Как и до войны, поезд приходил в 6 утра. Было совсем темно, и только что начали ходить троллейбусы. Говорили, что ленинградские улицы лишь недавно стали проезжими. До открытия учреждений посидел в Летнем саду, едва узнаваемом. Было холодно и неуютно, и больно видеть пустым тот оживленный, милый город, который я знал до войны. Но это все же был он, с его неповторимыми строгостью и изяществом.
Обком комсомола размещался во дворце Кшесинской, и я не сумел скрыть, что поражен разницей условий, в которых работают ленинградские и новгородские обкомовцы. А они были очень этим довольны. Новгородский обком «отпочковался» от Ленинградского, все знали друг друга, забросали меня вопросами о Сехчине и других. Провели со мной даже небольшую экскурсию по дворцу. И, конечно же, сразу дали броню на билет и номер в «Астории».
Так я впервые оказался в этой уютной старой гостинице, в которой потом обычно останавливался, пока ее не отдали исключительно интуристам. Горячий душ, бритье перед нормальным зеркалом — каковы блага цивилизации!
Потом отправился в наш институт. Впервые вошел в здание Кунсткамеры (потом-то приезжал еще не раз как ученый секретарь). Наши сотрудники, пережившие тут блокаду, были уже в ватниках и валенках (холод давал себя знать), но бодры и деловиты: готовились к зиме, уже не блокадной. Каюсь, после нашей московской тесноты мне казалась странной их озабоченность, что с наступлением зимы отапливаться будут только 8 комнат (у нас-то было 3!) и придется, может быть, сидеть по двое, не у всех будут отдельные кабинеты. Впрочем, вспомнив осадное сидение в Москве, я понял очень ясно, что обилие пустых помещений, которые, однако, надо было оборонять, не уменьшало, а увеличивало тяжесть блокады. Через несколько лет прочел «блокадный» рассказ Каверина о девочке, умиравшей в пустой заледенелой квартире[136]. От пустоты ужас еще больше.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Записки советского интеллектуала"
Книги похожие на "Записки советского интеллектуала" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Рабинович - Записки советского интеллектуала"
Отзывы читателей о книге "Записки советского интеллектуала", комментарии и мнения людей о произведении.