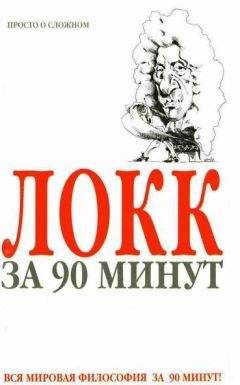Сергей Абашин - Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией"
Описание и краткое содержание "Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией" читать бесплатно онлайн.
Исследование профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина посвящено истории преобразований в Средней Азии с конца XIX века и до распада Советского Союза. Вся эта история дана через описание одного селения, пережившего и завоевание, и репрессии, и бурное экономическое развитие, и культурную модернизацию. В книге приведено множество документов и устных историй, рассказывающих о завоевании региона, становлении колониального и советского управления, борьбе с басмачеством, коллективизации и хлопковой экономике, медицине и исламе, общине-махалле и брачных стратегиях. Анализируя собранные в поле и архивах свидетельства, автор обращается к теориям постколониализма, культурной гибридности, советской субъективности и с их помощью объясняет противоречивый характер общественных отношений в Российской империи и СССР.
Три истории, получившие в советское время официальный статус воспоминаний и прошедшие формальную цензуру, демонстрируют, таким образом, три вида памяти и три разных способа прочтения гибели Синицына от рук повстанцев, возглавляемых Рахманкулом. Все три версии противоречат друг другу, путают факты или явно их фальсифицируют, акцентируют разные детали и символы. Каждая версия отражает особенности личной биографии ее автора, особенности его мировосприятия, жизненного опыта, интересов и тактики вспоминания. Каждая история имеет свою логику, свой политический, исторический и культурный контекст — свою аудиторию, чаще предполагаемую, нежели реальную, к которой осознанно или неосознанно обращается тот или иной бывший участник борьбы за установление советской власти в Средней Азии. Рассказ Калмыкова эксплуатирует романтику большевистского мужества, у Мадаминова читатель может почувствовать восхищение силой противника, что увеличивает цену победы над ним, рассказ Арутюнова воспроизводит клише имперского завоевания. При этом все они остаются в рамках легитимного советского нарратива.
В самóм процессе вспоминания я вижу две тенденции. Первая — это стремление через память, через конструирование прошлого создать пространство общих значимых символов, поместить время в определенные координаты, которые диктовали бы разделяемые всеми смыслы, ценности, способы легитимации. 1917 год и Гражданская война, в нашем случае — борьба со среднеазиатским басмачеством, маркировались как важный временной разрыв, конец одной истории и начало другой. Обращение к личным воспоминаниям наполняло эти идеологические схемы живыми голосами и тем самым еще больше усиливало эффект сопричастности и сопереживания.
Вторая тенденция, которая особенно интересна для меня, — это желание самих людей встроить в пространство общих символов свои собственные представления, интересы, жизненный опыт и сделать их значимыми или по крайней мере принятыми обществом. Это происходило потому, что высшая власть, которая вроде бы имела безусловную возможность диктовать какую-то одну позицию, во-первых, сама не имела такой единственной позиции и постоянно пересматривала свои идеологемы, а во-вторых, была не в состоянии контролировать идеологические рамки исключительно с помощью репрессий и оказывалась вынуждена допускать или пропускать разные точки зрения в создаваемом дискурсивном пространстве, требуя взамен лишь выражения лояльности. Три рассказа, упомянутые выше, демонстрируют как раз такие разные попытки высказаться об одном из эпизодов Гражданской войны в Средней Азии в начале 1920-х годов.
Рассматривая версию событий со стороны тех, кто боролся с басмачами, и тех, кто приходил в Ошобу, чтобы установить свою правду о прошлом, закономерно задаешь себе вопрос: а что думают сами ошобинцы о тех событиях, как они помнят их? В первом очерке я уже писал о том, как разные нарративы конкурируют и сосуществуют, предлагая свое описание и свою интерпретацию событий 1875 года, когда Ошоба была взята штурмом и сожжена войсками царского генерал-губернатора. И тогда я обратил внимание читателей на то, что помимо имперского и национального нарративов, которые стремятся к доминированию, живет локальный нарратив — «подчиненная» история прошлого, рассказанная самими ошобинцами с местной точки зрения на окружающий мир. В данном очерке я собираюсь прислушаться к тому, как жители Ошобы говорят о периоде 1916–1922 годов, когда в кишлаке правил курбаши Рахманкул. Мне интересно, кем себя видел сам Рахманкул и каким его видели современники. Мне интересен также вопрос, как отсылка к Рахманкулу и принадлежности к его басмаческому войску служила инструментом местной политики после Рахманкула и как такая отсылка влияла на социальные позиции в Ошобе. Интересен, наконец, вопрос, как формируется в ошобинском сообществе собственное воспоминание о прошлом и как это воспоминание ищет способы своей легитимации. Данные, которые я собрал по этому поводу, заведомо неполны и противоречивы — но они позволяют, как мне кажется, проанализировать некоторые важные черты местной жизни.
Как стать курбаши?
В одном из документов 1922 года говорилось: «Рахманкул по происхождению — таджик [!!], совершенно неграмотный человек, бывший конный караульщик Ашабинской волости [!!], а затем помощник арычного аксакала. Очень хитрый и вероломный человек, ненавидит русских»224. В другой книге, написанной гораздо позже, Рахманкул превратился в «бывшего полицейского», что, конечно, выглядело гораздо более зловеще и красноречиво, чем караульщик225. В первом случае ошибки в определении национальности и в названии волости дополняли непривлекательные черты, какими они виделись тогдашнему советскому чиновнику, во втором случае социальная характеристика становилась главным обвинением и объяснением чуждости. Эти оценки вытекали из официально-негативного отношения советской власти к басмачеству и его лидерам.
Теперь посмотрим, как ошобинцы помнили биографию Рахманкула и оценивали его деятельность. В их глазах курбаши не являлся ни человеком, одержимым исключительно идеями борьбы с русскими или большевиками, ни чужаком в национальном или каком-то ином, социальном смысле. Будущий курбаши происходил из семьи Махмарозыка (Мухаммад-Розыка), или Абдурозыка, из Катта-Урта-махалли, который был, по одним воспоминаниям, обычным крестьянином, по другим — муллой. До 1917 года, по разным сведениям, Рахманкул работал охранником (қоровул) при ошобинском аксакале, выполнял обязанности почтальона, работал извозчиком в Намангане. Вспоминали также, что он хорошо играл в козлодрание-улак (улоқ), популярное состязание, которое демонстрировало физические качества молодого человека, делало его известным в селении и позволяло организовать команду — пока еще спортивную — сторонников226. К моменту, когда его имя стало известно, Рахманкулу было около 30 лет (Илл. 5).
Возвышение Рахманкула в различных воспоминаниях интерпретировалось по-разному. По словам ошобинцев, еще до революции на кишлак часто делал набеги некий басмач Умаркул из Коканда, поэтому однажды Рахманкул собрал людей в местечке Чинар-бува227 и предложил им организоваться для защиты Ошобы — это произошло где-то в 1914 году; постепенно он со своим войском разгромил все конкурирующие группировки басмачей в Бабадарханской и Аштской волостях и стал самым сильным военным лидером (Илл. IV). В этом рассказе популярность Рахманкула объяснялась интересами местного сообщества, необходимостью защиты последнего от чужаков и задачей борьбы с конкурентами. В историях о Рахманкуле упоминались, в частности, соперники из Пангаза (курбаши Аширмат), то есть из сообщества, выступающего, как мы помним228, в качестве локального «иного», отношения с которым становятся способом объяснения событий прошлого229. Я слышал в одном интервью, что отряд Рахманкула первоначально состоял из сорока человек — в данном случае это число было способом мифологического прочтения и легитимации событий. Один ошобинский житель, который считал себя коммунистом, в своем рассказе подчеркивал, что Рахманкул был из бедной семьи — он возглавил группу молодых людей, чтобы бороться с бандитами и защищать Ошобу, брал деньги у богатых и отдавал их бедным. Здесь мы видим уже идеологическую советскую риторику, с ее помощью Рахманкул, с которым советская власть боролась, неожиданно трансформируется чуть ли не в идейного сторонника большевиков.
Илл. 5. Рахманкул-курбаши, 1922 г., после ареста
Во всех этих трактовках Рахманкул вовсе не был изначальным противником колониальной власти. Последняя не могла в полной мере осуществлять полицейские функции, поэтому вынуждена была создавать в помощь «туземной» администрации постоянные или временные отряды из местного населения, которым поручала следить за порядком. В городах и крупных селениях именно с подачи этой самой колониальной власти были назначены курбаши (қўрбоши), начальники таких отрядов, получавшие официальное жалованье и подотчетные уездным начальникам230. Можно предположить, что молодой Рахманкул, происходивший из семьи, которая не имела много земли и скота, служил в таких отрядах, стараясь заработать на жизнь, и, возможно, поддерживал какую-то из ошобинских группировок, выполнял поручения сельского старосты и местных пятидесятников231. У него была, иначе говоря, довольно обычная для Ошобы биография.
Указ Николая II о наборе на фронт жителей Средней Азии (которые до этого были освобождены Александром II от обязанности военного призыва) от 25 июня 1916 года вызвал цепную реакцию восстаний и бунтов. Уже 4 июля произошли беспорядки в Ходженте. 17 июля, как свидетельствуют архивные данные, в селении Ашт толпа местных жителей напала на дом волостного управителя Мухаммад-Садыка Алимбаева, полностью разгромила и разграбила его, сожгла все списки о сборах налогов и другие документы. При этом были убиты брат и дядя управителя. Был убит также старшина сельского общества Верхний Ашт. В тот же день в соседнем селении Пунук жители напали на своего старшину и его писаря, избили их и сожгли дом старшины, был убит пятидесятник, который пытался уговорить толпу разойтись. Погромы произошли также в Джар-булаке, где был сожжен дом волостного управителя. Российская власть быстро отреагировала — были введены военные силы и арестованы десятки активных участников погромов232. Это позволило прекратить погромы и убийства, но не успокоило страсти — люди продолжали выражать недовольство233.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией"
Книги похожие на "Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Абашин - Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией"
Отзывы читателей о книге "Советский кишлак. Между колониализмом и модернизацией", комментарии и мнения людей о произведении.