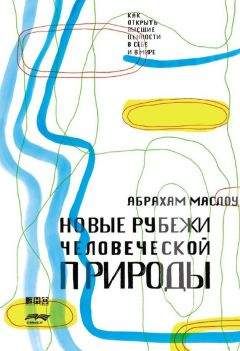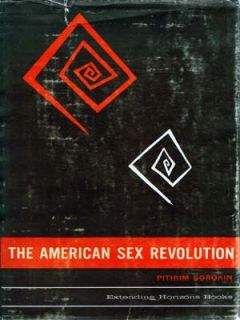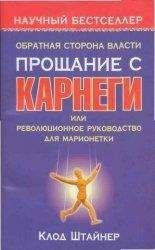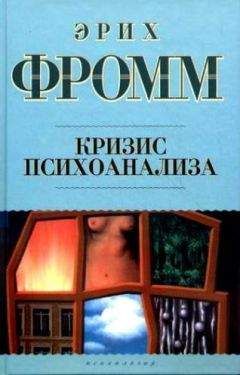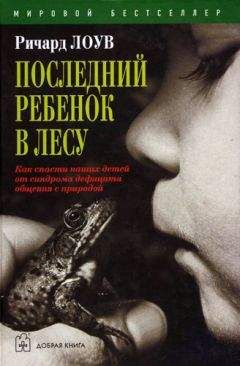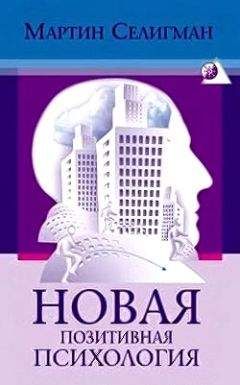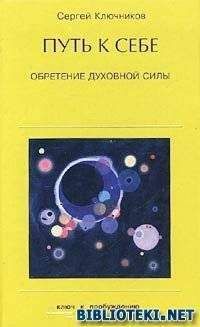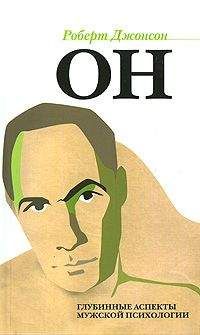Марк Хаузер - Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла
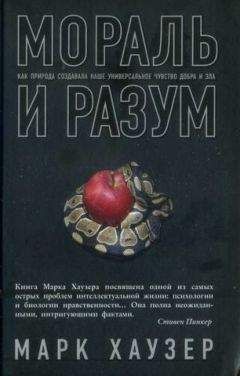
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла"
Описание и краткое содержание "Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла" читать бесплатно онлайн.
В книге известного американского ученого Марка Хаузера утверждается, что люди обладают врожденным моральным инстинктом, действующим независимо от их пола, образования и вероисповедания. Благодаря этому инстинкту, они могут быстро и неосознанно выносить суждения о добре и зле. Доказывая эту мысль, автор привлекает многочисленные материалы философии, лингвистики, психологии, экономики, социальной антропологии и приматологии, дает подробное объяснение природы человеческой морали, ее единства и источников вариативности, прослеживает пути ее развития и возможной эволюции. Книга имела большой научный и общественный резонанс в США и других странах. Перевод с английского Т. М. Марютиной Научный редактор перевода Ю. И. Александров
Дети слушали несколько историй, построенных по одной схеме: ребенок хочет выполнить некоторое целевое действие, но сначала по настоянию родителя он должен сделать что-то еще. Каждая история, таким образом, включала разрешающее действие, но с ключевым условным утверждением: если ты хочешь получить разрешение, тогда ты должен удовлетворить предшествующее условие. Вслед за историей экспериментатор выкладывал перед ребенком четыре картинки, описывал каждую и затем просил, чтобы ребенок идентифицировал ту, которая представляет нарушение родительского условия. Затем ребенок должен был объяснить, почему дело обстоит именно так.
Рассмотрим в качестве примера историю о Сэме. Однажды Сэм захотел поиграть на улице. Его мама заявила, что, если он выходит из дома, чтобы поиграть, он должен надеть шапку. Вот четыре картинки, изображающие Сэма. На этой картинке (экспериментатор указывает на верхнюю картинку слева) Сэм у себя дома и на голове у него шапка... (Так описывается каждая картинка.) Затем внимание ребенка привлекают к картинке, где Сэм не послушался маму, и спрашивают: «Что на этой картинке Сэм сделал неправильно?»
Задача оказалась простой для детей и трех, и четырех лет. Мало того что они идентифицировали непослушного ребенка в знакомых ситуациях (такого, как Сэм), но также и в незнакомых ситуациях, даже таких, где мать просит свою дочь носить головной убор от солнца, когда та занимается живописью в закрытом помещении. Дети в этом возрасте были также способны объединять знание правил, регламентирующих поведение, со своим пониманием психических состояний других людей, проводя различие между намеренными и случайными нарушениями правила. Например, мама Сэма просит, чтобы он носил шапку, если играет на улице. На одной картинке Сэм на улице, и сам снимает шапку во время игры; на второй картинке ветер сдувает шапку Сэма в то время, как тот играет на улице. Дети признают, что только первая картинка представляет нарушение. Они понимают, что в моральной оценке ситуации важны не только последствия, но и средства, с помощью которых они были достигнуты.
Эти данные сопровождаются и другими выводами. Согласно им, действия, причиняющие вред (и в физическом, и в психологическом плане), совершаемые и в обычных, и в необычных жизненных ситуациях, оцениваются маленькими детьми как неправильные, и эти оценки зависят от намерений действующего лица. Например, дети в возрасте примерно до трех лет признают, что если действие причиняет вред, но намерение было хорошим, то оно оценивается менее строго, чем в том случае, когда намерение было плохим, т. е. с самого начала была цель — причинить вред. В совокупности эти наблюдения указывают на рано проявляющуюся способность улавливать тончайшие оттенки субъективного мира человека, противопоставляемого особенностям его поведения.
Вопреки и Пиаже, и Колбергу, открыто отрицавшим раннюю компетентность в сфере морали, которая зависит от умения распознавать намерения субъекта, эти исследования показывают, что маленькие дети обладают способностью идентифицировать мошенников. Они смотрят на причины и намерения действий, перед тем как соотнести их с моральным приговором. Хотя и в ограниченных пределах, эти результаты соответствуют предсказаниям Туби и Космидес: наша способность обнаруживать мошенников, которые нарушают социальные нормы, — скорее один из подарков природы, чем выученная способность, сложившаяся под влиянием родительской опеки с регламентирующими правилами.
Сострадательное сотрудничество
Романист Дороти Сайерс отметила: «Зависть — великий уравнитель: если она не в состоянии уравнять вещи, она опускает уровень... вместо того чтобы видеть кого-то счастливее других, она предпочтет видеть всех нас несчастными»[274].
Зависть — универсальная эмоция, связанная со злостью, и часто — источник нашего смущения и стыда, когда обнаруживаешь ее в своей душе. В отличие от своей эмоциональной сестры — ревности, зависть удостоилась намного меньшего внимания. В недавно изданной серии, посвященной семи смертным грехам, Джозеф Эпштейн пишет: «Происхождение зависти, как и мудрости, неизвестно, это тайна. Люди религиозного склада ума могли бы сказать, что зависть обязана своим возникновением первородному греху; это часть наследства человека, посланного «багажом» по пути из Эдема. Библия полна историями о зависти, некоторые истории содержат открытые действия, многие имеют завуалированный характер. Сущность зависти — в ее скрытости и недоступности для других».
Почти так же описывает это чувство психиатр Уильям Гэйлин: «Зависть действительно может быть бесполезной эмоцией. Она, кажется, не обслуживает ни одну из целей, столь явных для других эмоций. В отличие от чрезвычайных эмоций страха и гнева, она не обслуживает выживание; в отличие от гордости и радости, она не обслуживает стремление к достижениям или качеству жизни; в отличие от вины и позора, она не пробуждает совесть или другие чувства, необходимые для жизни в сообществе. Она не возбуждает, не освобождает и не обогащает нас»[275].
Этнографическая литература, посвященная описанию жизни охотников/собирателей, вместе с исследованиями в экспериментальной экономике и эволюционной психологии дают основания считать, что диагноз Гэйлина, поставленный зависти, устарел. Зависть нельзя игнорировать, поскольку она играет ключевую роль в выживании индивидуума, мотивируя его достижения, обслуживая осознание себя самого и других, возбуждая в человеке пристрастность, которая при наличии дополнительной стимуляции может привести к нарастанию насилия. Поскольку завистливые люди — источник угрозы, наблюдение за предметом их озабоченности может быть одним из способов избежать эскалации напряжения и восстановить нарушенное равновесие. В этой связи отметим, что наблюдение за поведением завистника не отрицает совершенно правильного заключения Гэйлина, согласно которому зависть является источником существенного недовольства и неприятностей. Как писал Шекспир в трагедии «Генрих VI», «где зависть порождает раздор, там наступает разрушение, там начинается смятение».
Первый шаг в понимании адаптивной логики зависти, которую можно рассматривать как один из компонентов в наборе средств создания Юма, связан с выяснением ее отличий от ревности. В то время как зависть всегда вызывается несправедливостью или неравенством во владении ценными ресурсами, ревность возникает, когда один индивидуум представляет угрозу, предполагаемую или реальную, установившимся отношениям, которые мы обычно воспринимаем как романтические, хотя они таковыми могут и не быть. Зависть поэтому развилась в ответ на воспринимаемую несправедливость, способную поддерживать дух соревнования с целью восстановить баланс.
В высокоэгалитарных обществах охотников/собирателей развивались многочисленные механизмы, задача которых состояла в том, чтобы поддерживать пристрастность и соперничество. Чувство зависти, а вслед за ней затраты усилий на уничтожение чьей-либо репутации, возможно, были одним из способов изменить других, готовясь к возможному возникновению ситуации соперничества. Как я упоминал в главе 2, охотники/собиратели нарушали социальную норму, если, возвращаясь с охоты, хвастались своими успехами. Умеренная форма зависти ведет к сплетне, и насмешка нередко используется как относительно дешевый механизм, чтобы возместить несправедливость, вызванную хвастовством. Оскар Уайльд размышлял: «Сплетня очаровательна! История — это просто сплетни. Но скандал — это сплетня, которую мораль делает неприятной»[276].
В лабораторных условиях экономисты-экспериментаторы создавали искусственные ситуации, когда испытуемым предлагали несправедливую сделку, вероятность успеха которой была существенно ниже, чем пятьдесят на пятьдесят. В ответ те действовали враждебно, отклоняя предложение, несущее личную потерю, но при этом определяли еще большую для своих противников. Когда в экономической игре кто-то выигрывал непропорционально большое количество ресурсов, проигравшие выражали желание потратить значительную часть своего дохода, лишь бы свести на «нет» прибыль, накопленную победителем.
Зависть поэтому может действовать как катализатор, способствуя уменьшению несправедливости. Но, в отличие от обществ охотников/собирателей, где всем в группе репутация каждого человека была известна, большинство из нас живет сегодня не в таких общинах — прозрачных, как аквариум. Это демографическое изменение может быть частично ответственно за более серьезные последствия зависти и за то, что зависть нередко проявляется более скрыто.
Известный фильм жанра экшен «Лара Крофт: расхитительница гробниц» представляет увлекательную дилемму — противостояние добра и зла. Борьбу между этими силами можно сравнить с эмоциональным «перетягиванием каната», которое возникает в контексте совместных действий, с одной стороны, Лары и ее помощников, а с другой — ее противников-мошенников. Лара Крофт, символизирующая добро, вспоминает беседу со своим отцом о древнем ключе. Если бы этот ключ можно было найти и использовать в течение парада планет, то он наделил бы счастливчика экстраординарной властью, способной управлять временем. Крофт находит первую из трех скрытых частей, которая затем была украдена секретной группой старейших политиков, символизирующих зло. Каждая сторона знает, что другая хочет получить контроль, и у каждой имеется нечто, нужное ее противнику. Крофт убеждает старейших, что они нуждаются в ней: ее знание поможет определить местонахождение других частей в период парада планет. Фаустиан, член сообщества старейших, предлагает Ларе путешествие во времени, чтобы встретиться со своим умершим отцом, — то, чего она отчаянно хочет. Они соглашаются сотрудничать. Обязательства даны. Цена обмана становится явной. Действие! Старейшие не имеют намерения сотрудничать. Не имеет таких намерений и Лара Крофт. Каждая сторона использует другую для эгоистичных целей. Побуждения Лары несут добро. Побуждения старейших направлены на достижение зла. Неудивительно, что добро в лице Лары Крофт, уничтожающей ключ и попутно нескольких старейших, побеждает.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла"
Книги похожие на "Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Марк Хаузер - Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла"
Отзывы читателей о книге "Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла", комментарии и мнения людей о произведении.