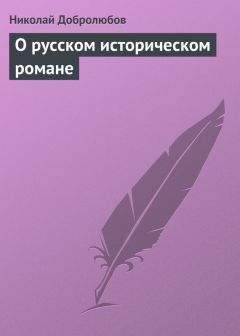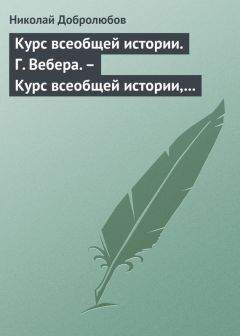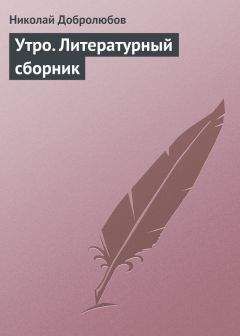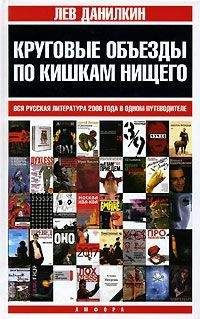Николай Добролюбов - Статьи о русской литературе (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Статьи о русской литературе (сборник)"
Описание и краткое содержание "Статьи о русской литературе (сборник)" читать бесплатно онлайн.
Русская литературная критика рождалась вместе с русской литературой пушкинской и послепушкинской эпохи. Блестящими критиками были уже Карамзин и Жуковский, но лишь с явлением Белинского наша критика становится тем, чем она и являлась весь свой «золотой век» – не просто «умным» мнением и суждением о литературе, не просто индивидуальной или коллективной «теорией», но самим воздухом литературной жизни. Эта книга окажет несомненную помощь учащимся и педагогам в изучении школьного курса русской литературы XIX – начала XX века. В ней собраны самые известные критические статьи о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Гончарове, Тургеневе, Толстом, Чехове и Горьком.
Думаю, что читатель не затруднится усмотреть это чувство в героях г. Горького. Но соблазнительная возможность сближения с идеями Ницше идет гораздо дальше. Предупреждаю, что я отнюдь не думаю доказывать, что свое освещение жизни г. Горький заимствовал у Ницше, – он нигде о нем не упоминает (хотя нашел же случай упомянуть, например, о Шопенгауэре) и, может быть, совсем не знаком с ним. Но тем интереснее совпадение, свидетельствующее о том, что известные идеи носятся в воздухе, не только кристаллизуясь в виде все растущего множества поклонников Ницше в Европе, но вот и у нас прорезывающихся самостоятельно, не говоря о людях, прямо заимствующих свой свет от Ницше. Во всяком случае, Ницше со всем своим нравственно-политическим учением не был бы чужим среди философствующих босяков г. Горького.
Начать с того, что одиночество играет в соображениях Ницше не меньшую роль, чем в мечтах и в жизни босяков г. Горького. Ницше слагает настоящие гимны одиночеству и даже предлагает установить новую научную дисциплину: рядом с наукой об обществе, Gesellschaftslehre, – науку об одиночестве, Einsamkeitslehre. Но одиночество не только драгоценно и как таковое составляет законный предмет мечтаний – оно неизбежно для всякого сильного человека, так как любая общественная форма требует от него уступок хоть какой-нибудь части его я, а он на подобные уступки согласиться по самой своей природе не может[59].
Но, кроме сильных, существуют и слабые, охотно подчиняющиеся многоразличным ограничениям свободы, да и для сильных Einsamkeitslehre не исключает надобности в Gesellschaftslehre – не потому, чтобы одиночество было невозможно: Ницше не знает ничего лучшего, как «погибнуть на великом и невозможном»; и не потому, чтобы одиночество доставляло страдания: Ницше готов принять страдание, и высшее наслаждение для него состоит в борьбе со всеми ее положительными и отрицательными шансами; но главным образом потому, что в сильных живет Wille zur Macht, «воля к власти», как у нас буквально переводят. Эта жажда власти, могущества есть, по мнению Ницше, главный двигатель истории и тесно связана с одним из коренных свойств человеческой природы – жестокостью: «вид страдания доставляет удовольствие, причинение страдания доставляет еще большее удовольствие; таков жестокий, но старый и могущественный закон» (Genealogie der Moral). Аскетическая практика самоистязания в ее свирепых формах имеет тот же источник: за отсутствием или недосягаемостью других индийский фанатик и т. п. терзает свое собственное тело и при том наслаждается своим превосходством над теми, кто не в силах это делать. Слабость, трусость, лицемерие часто заслоняют эти коренные свойства человеческой природы, и в настоящее время у цивилизованных народов создали «мораль рабов» в противоположность «морали господ», которую некогда исповедовали сильные, жизнерадостные, жестокие, чувственные, властные люди – «великолепные, жаждущие победы и добычи животные». То было время торжества красоты, силы, время здоровых инстинктов, не изъеденных рассудочным анализом и мертвящей рефлексией[60]. Ныне торжествует «мораль рабов», в основании которой лежит кротость, смирение, покорность, умеренность и аккуратность, не воздействие на обстоятельства, а подчинение им. Но временами прокидываются экземпляры прирожденных «господ», которым принадлежит будущее. Они суть прообразы «сверхчеловека», имеющего наследовать землю. В настоящее же время они суть чандалы, отверженные или отвергнувшие носители чувств мести и ненависти ко всему существующему, не уживающиеся в тех, если угодно, «ямах», которые им предлагаются существующими условиями, и населяющие Мертвый дом Достоевского. Но этот исход не единственный, это только случай победы прирожденного «господина» рабским обществом; возможен и противоположный исход, когда чандал, преступивший все законы и всю мораль рабского общества, становится его действительным господином: таков был Наполеон. (Напомню, что и для Раскольникова в «Преступлении и наказании», считавшего себя необыкновенным, из ряда вон выходящим человеком, имеющим право «преступить», Наполеон был идеалом.)
Я не думаю, конечно, излагать здесь все взгляды Ницше и оставляю в стороне многое, очень многое, в том числе подробности о «сверхчеловеке», о проповеди «любви к дальнему» взамен «любви к ближнему» и т. п. Все это не имеет своей параллели в произведениях г. Горького. Для нас интересна здесь только психология чандалов. И, полагаю, никто не усомнится признать разительное сходство ее с психологией героев г. Горького. Кто, как не ницшевские прирожденные господа этот Челкаш в противоположность рабу Гавриле, Сокол в противоположность Ужу, Кузька Косяк в противоположность мельнику, Данко в противоположность всему табору, удалец Сережка в противоположность разной деревенщине, даже отчасти Чиж в противоположность Дятлу или Макар Чудра, который учит автора: «Что ж, он родился затем, что ли, чтобы поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы себе выковырять? Ведома ему воля? Жизнь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Эге! Он раб, как только родился, и во всю жизнь раб».
Отмечу некоторые любопытные детали. Ницше рекомендовал (в «Morgenrцthe») всем, кому тесно в Европе и кто, конечно, чувствует себя «господином», удаляться в дикие места и там основывать новые государства, становясь во главе их. Ницше, как сообщают его биографы, и сам одно время мечтал о подобной роли. Не напоминает ли это читателю мысленное переселение Коновалова на остров Робинзона? Хотя Коновалов устранял оттуда даже Пятницу, но, как я уже говорил, по всей вероятности, скоро пожалел бы об этом. По крайней мере Мальва мечтает или жить далеко в море в полном одиночестве и, следовательно, никому не подчиняться, или «завертеть бы каждого человека, да и пустить волчком вокруг себя», то есть себе подчинить.
Мы видели, что босяки г. Горького не особенно мягко относятся к своим дамам и бьют их. А Ларра, осужденный на одиночество, приходил брать у своих соплеменников силком «скот, девушек, все, что хотел». Значит, присутствие женщин не нарушало его одиночества, женщина в счет не идет. Для Ницше женщина «изящная и опасная игрушка», высшею мечтою которой должна быть надежда родить сверхчеловека. А мудрая старушка советует Заратустре: «если ты идешь к женщине, не забудь захватить кнут». Нo, конечно, и мудрая старушка, и сам Заратустра сделали бы исключение, например, для Радды, которая, будучи прирожденной «госпожой», столь же мало способна подчиниться Зобару, как и он ей.
Еще одно – и последнее – мелкое замечание, оправдать которое предоставляю самому читателю: кто читал статью Ницше «Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben»[61], тот может принять рассказ г. Горького о Чиже и Дятле чуть не за художественный комментарий к этой статье...
Что из всего этого следует? Прежде всего то, что больной немецкий мыслитель-художник, произведения которого переполнены странностями, противоречиями, произвольными положениями и выводами, но тем не менее высокообразованный и высокодаровитый, а некоторые утверждают – даже гениальный, что этот мыслитель-художник может занять место среди русских Челкашей, Сережек, Кузек и прочих грубых, пьяных, преступных, невежественных героев г. Горького. Это не так странно, как может показаться с первого взгляда. С одной стороны, сам Ницше различает чандалов – обитателей Мертвого дома и чандалов – Наполеонов, причем различие это устанавливает не по существу, а по случайностям судьбы тех и других; с другой стороны, и в коллекции г. Горького есть не только Сережки и Кузьки, а и облитые поэтическим ореолом Зобары, Данки, Соколы, Ларры. Наконец, мы имеем еще промежуточное звено в лице многих героев Достоевского, каковы не только обитатели Мертвого дома, приближающиеся к Сережкам и Челкашам, а и Ставрогины, Раскольниковы и проч., приближающиеся к Зобарам, Ларрам, Наполеонам.
Повторяю, я отнюдь не утверждаю, что на г. Горького имел влияние Ницше, и склонен, напротив, думать, что это именно совпадение, а не сознательное усвоение или бессознательное подражание. Влияние Достоевского может быть достовернее. Но, во всяком случае, мы имеем трех писателей, весьма различных, по-видимому, и по совокупности образа мыслей, и по степени таланта, и по форме работы, но сосредоточивших свое внимание на одних и тех же явлениях душевной жизни, весьма мало изученных. И, по-видимому, эти явления становятся все ярче, заметнее, потому что вот по крайней мере в Европе они нашли себе теоретическое обоснование и апологию в учении Ницше.
Надо, однако, заметить, что физиономия Ницше представляет собою нечто чрезвычайно сложное и противоречивое, ввиду чего в Европе, несомненно переживающей ныне некоторый духовный кризис, им интересуются, желают опереться на него или причислить его к своим люди чрезвычайно различных направлений. Не говорю о тех, кто гонится за всякой новинкой, какова бы она ни была, лишь бы это было хронологически «последнее слово», и кого ни к чему не обязывает это последнее слово, из которого они, впрочем, и корысти никакой не извлекают, а так себе, как перо на шляпе носят. Но вот, например, нравственно распущенные люди, люди sans foi ni loi[62] пожелали опереться на «имморализм» Ницше; и совершенно напрасно, потому что хотя он и сам называл себя «имморалистом», но, в сущности, он настоящий моралист, притом очень строгий, только его мораль резко отличается от ныне общепризнанной. В Европе все растет разочарование в общественных формах, выработанных ее историей, и не только реальных, но и в тех грядущих формах, которые вырабатываются различными социалистическими системами. Одним из плодов этого разочарования является анархизм. Некоторые из исповедующих анархизм и приветствовали Ницше. Они имели для этого некоторое основание в той части его учения, которая беспощадно разрушает все, как реальные, так и идеальные общественные формы, дескать, стесняющие и урезывающие личность, а также и еще кое в чем. Но, узнав об этом, Ницше вложил в уста своему Заратустре такие слова: «Есть люди, проповедующие мое учение о жизни; и в то же время это проповедники равенства и тарантулы. Я не хочу, чтобы меня смешивали с этими проповедниками равенства». И действительно, трудно найти большего ненавистника идеи равенства, чем Ницше. Его учение – аристократическое durch und durch[63], как говорят немцы. О рабочих он выражается так: «побрал бы их черт и статистика»; к толпе, партии, большинству, множеству, массам, народу он относится с величайшим презрением, не примыкая, однако, ни к одному из существующих аристократических течений и, напротив, громя наличные аристократии рода и капитала. Однако и в этом отношении есть в европейской литературе явления, которые можно поставить в связь с учением Ницше. Это, во-первых, некоторые отроги дарвинизма (как читатель мог видеть хотя бы из недавней нашей беседы о книге «Von Darwin bis Nietzsche»[64]). Это, во-вторых, ряд если не прямо аристократических, то, во всяком случае, антидемократических толкований вопроса о «героях и толпе»[65]. Наконец, и некоторые декаденты не без основания признают Ницше своим, хотя должны бы это делать с большими оговорками.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Статьи о русской литературе (сборник)"
Книги похожие на "Статьи о русской литературе (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Добролюбов - Статьи о русской литературе (сборник)"
Отзывы читателей о книге "Статьи о русской литературе (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.