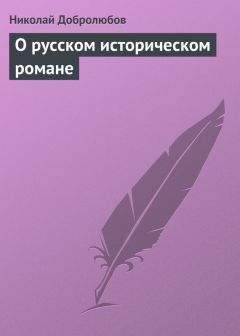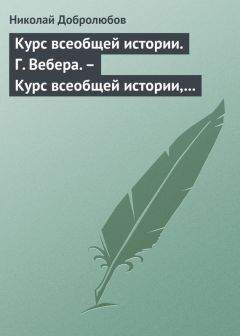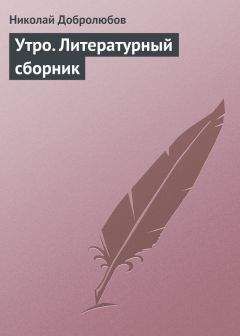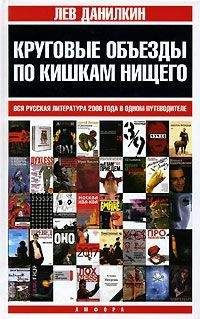Николай Добролюбов - Статьи о русской литературе (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Статьи о русской литературе (сборник)"
Описание и краткое содержание "Статьи о русской литературе (сборник)" читать бесплатно онлайн.
Русская литературная критика рождалась вместе с русской литературой пушкинской и послепушкинской эпохи. Блестящими критиками были уже Карамзин и Жуковский, но лишь с явлением Белинского наша критика становится тем, чем она и являлась весь свой «золотой век» – не просто «умным» мнением и суждением о литературе, не просто индивидуальной или коллективной «теорией», но самим воздухом литературной жизни. Эта книга окажет несомненную помощь учащимся и педагогам в изучении школьного курса русской литературы XIX – начала XX века. В ней собраны самые известные критические статьи о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Гончарове, Тургеневе, Толстом, Чехове и Горьком.
Думал ли сам критик, когда писал он эти немногие, но глубоко сочувственные строки, о том, в какой мере суждено и осуществиться и потом разбиться его надеждам... Разумеется, нет. Он шел потом с Гоголем рука об руку, толкуя, поясняя его, разливая на массу свет его высоких произведений. Гоголь стал литературным верованием Белинского и целой эпохи, – и здесь место определить свойства его великой художественной натуры, до минуты ее болезненного разложения, – ибо этими свойствами определяются и степень и значение влияния его на всю последующую эпоху литературного движения.
Всякое дело получает значение по плодам его, и каков бы ни был талант поэта, одного только таланта как таланта еще недостаточно. Важное дело в поэте то, для чего у немцев существует общепонятный и общеупотребительный термин die Weltanschauung, что у нас, tant bien que mal[34], переводится миросозерцанием.
Миросозерцание, или, проще, – взгляд поэта на жизнь, не есть что-либо совершенно личное, совершенно принадлежащее самому поэту. Широта или узость миросозерцания обусловливается эпохой, страной, одним словом, временными и местными историческими обстоятельствами. Гениальная натура, при всей своей крепкой и несомненной самости или личности, является, так сказать, фокусом, отражающим крайние истинные пределы современного ей мышления, последнюю истинную степень развития общественных понятий и убеждений. Это мышление, эти общественные понятия и убеждения возводятся в ней, по слову Гоголя, в «перл создания», очищаясь от грубой примеси различных уклонений и односторонностей. Гениальная натура носит в себе как бы клад всего непеременного, что есть в стремлениях ее эпохи. Но, отражая эти стремления, она не служит им рабски, а владычествует над ними, глядя яснее многих вперед. Противоречия примиряются в ней высшими началами разума, который вместе с тем есть и бесконечная любовь.
Отношение такой гениальной натуры к окружающей ее и отражающейся в ее созданиях действительности только на первый взгляд представляется иногда враждебным. Вглядитесь глубже, и во вражде, в желчном негодовании уразумеете вы любовь, только разумную, а не слепую; за мрачным колоритом картины ясно будет сквозить для вас сияние вечного идеала, и, к изумлению вашему, нравственно выше, благороднее, чище выйдете вы из адских терзаний Отелло, из безвыходных мук морального бессилия Гамлета, – из грязной тины мелких гражданских преступлений, раскрывающейся пред вами в «Ревизоре», и пусть холод сжимал ваше сердце при чтении «Шинели», вы чувствуете, что этот холод освежил и отрезвил вас, и нет в вашем наслаждении ничего судорожного, и на душе у вас как-то торжественно. Миросозерцание поэта, невидимо присутствующее в создании, примирило вас, уяснивши вам смысл жизни. Поэтому-то создание истинного художника в высокой степени нравственно, не в том, конечно, пошлом и условном смысле, над которым поделом смеется наш век: избави вас небо от той нравственности, которая до сих пор еще готова видеть в Пушкине безнравственного поэта и в героях его уголовных преступников, которая до сих пор еще не прощает Мольеру его Тартюфа и доискивается атеизма в Шекспире. Нет, создание истинного художника нравственно в том смысле, – что оно живое создание. Оживите перед вами лица Шекспировых драм, обойдитесь с ними как с живыми личностями, призовите их вторично на суд, и вы убедитесь, что Немезида, покаравшая или помиловавшая их, полна любви и разума. Даже не нужно и убеждаться в том, что совершенно непосредственно сознается, осязательно чувствуется.
В сердце у человека лежат простые вечные истины, и по преимуществу ясны они истинно гениальной натуре. От этого и сущность миросозерцания одинакова у всех истинных представителей литературных эпох, различен только цвет. Одну и ту же глубокую, живую веру и правду, – одно и то же тонкое чувство красоты и благоговения к ней встретите вы в Шекспире, в Гоголе, в Гете и в Пушкине, – та же самая нота звучит и в напряженном пафосе Гоголя, и в мерно-ровном, блестящем течении творчества Гете, и в благоуханной простоте Пушкина, и в строго-безукоризненном величии Шекспира. Различие может быть только в степени и в цвете чувствования. Мы верим Гете, когда слышим из уст его слово его жизни, спокойное и твердое слово юноши-старца:
Das Wahre war schon längst gefunden,
Hat edle Geisterschaft verbunden;
Das alte Wahre fab es an[35], —
и понимаем, что эта великая натура, вопреки воплям Менцелей и писку разных насекомых, от сердца сказала: «О высоких мыслях и чистом сердце должны мы просить бога». Мы верим Пушкину, когда говорит он нам:
Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И знаю, будут мне минуты наслажденья
Средь горестей, забот и треволненья...
Мы, повсюду за живыми лицами Шекспировых драм, сочувствуем великой мужеской личности самого творца и внимаем разумно-любовному слову жизни; мы слышим тоску по идеале в созданиях Гоголя, все равно, с кем ни знакомит он нас, с Тарасом ли Бульбой или с Маниловым, с Акакием ли Акакиевичем или с ослепляющей, как молния, красотой Аннунциаты. И какое таинственное чутье указывает гениальной натуре пределы в создании, что охраняет ее от двух зол: от рабской копировки явлений жизни и от ходульной идеализации, что заставляет ее остановиться вовремя, что, наконец, хранит в ней самой так свято, так неприкосновенно завещанное ей ее слово жизни?.. Одна бы, кажется, недомолвка – и Акакий Акакиевич поразил бы вас не трагическим, а сентиментально-плаксивым впечатлением; еще бы одна черта – и Миньона Гете стала бы фальшивой, хотя блестящей Эсмеральдой; лишняя минута в жизни Татьяны или лишний порыв в простом рассказе о «капитанской дочке», и эти создания потеряли бы свою недосягаемую простоту; немного гуще краски в изображении Офелии или Дездемоны – и гармония, целость, полнота «Отелло» и «Гамлета» были бы нарушены!
Истинный художник сам верует в разумность создаваемой им жизни, свято дорожит правдою, и оттого мы в него веруем, и оттого в прозрачном его произведении сквозит очевидно созерцаемый им идеал: фигуры его рельефны, но не до такой степени, чтобы прыгали из рам; за ними есть еще что-то, что зовет нас к бесконечному, что их самих связывает незримою связью с бесконечным. Одним словом, как говорит Гоголь в своем глубоком по смыслу «Портрете», предметы видимого мира отразились сперва в душе самого художника – и оттуда уже вышли не мертвыми сколками с видимых явлений, а живыми, самостоятельными созданиями, в которых, как Гоголь же говорит, «просвечивает душа создавшего».
Гоголь, одна из таких предызбранных гениальных натур, пояснил нам отчасти процесс такого извнутри выходящего творчества. Вот это многознаменательное, хотя болезненное признание, подавшее повод в свое время к различным толкам. Великий художник, яснее и врагов своих и поклонников, определяет здесь и свойство и значение своего таланта, и пружины своего творчества, и, наконец, даже свою историческую задачу («Переписка с друзьями», стр. 141).
«Герои мои, – говорит Гоголь, – потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения – история моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, определю тебе себя самого, как писателя. Обо мне много толковали, разбирали кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого нет у других писателей».
Останавливаемся несколько здесь и заметим, что поэт напрасно боялся открыть это душевное обстоятельство. Оно, по нашему мнению, относится не к человеку Гоголю, а к художнику, в широкой натуре которого заключены и «добрая и злая». Гоголь как художник должен был быть таковым, чтобы сказать миру свое слово, и все, что говорит он о себе как о человеке, должно относить к художнику.
«Итак, вот в чем мое главное достоинство, – продолжает он, – но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною.
Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся виднее всех моих прочих пороков, все равно, как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность, но зато, вместо того, во мне заключалось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рождения моего, несколько хороших свойств, но лучшее из них было желание быть лучшим. Я стал, – говорит далее поэт, – наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моею собственною дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобою, насмешкою и всем, чем ни попало. Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы точно содрогнулся».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Статьи о русской литературе (сборник)"
Книги похожие на "Статьи о русской литературе (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Добролюбов - Статьи о русской литературе (сборник)"
Отзывы читателей о книге "Статьи о русской литературе (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.