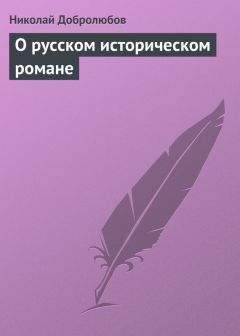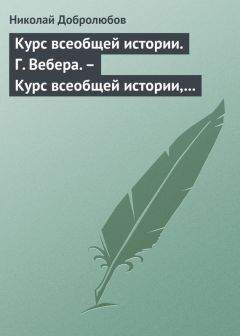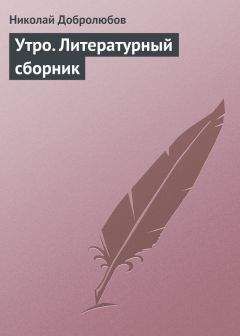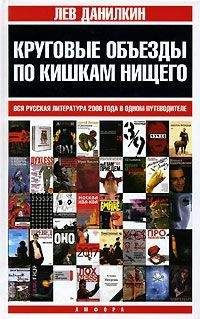Николай Добролюбов - Статьи о русской литературе (сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Статьи о русской литературе (сборник)"
Описание и краткое содержание "Статьи о русской литературе (сборник)" читать бесплатно онлайн.
Русская литературная критика рождалась вместе с русской литературой пушкинской и послепушкинской эпохи. Блестящими критиками были уже Карамзин и Жуковский, но лишь с явлением Белинского наша критика становится тем, чем она и являлась весь свой «золотой век» – не просто «умным» мнением и суждением о литературе, не просто индивидуальной или коллективной «теорией», но самим воздухом литературной жизни. Эта книга окажет несомненную помощь учащимся и педагогам в изучении школьного курса русской литературы XIX – начала XX века. В ней собраны самые известные критические статьи о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Гончарове, Тургеневе, Толстом, Чехове и Горьком.
«Какая нежная душа в нем!» – воскликнул Белинский. И тот же университетский товарищ, который, заговорив с Лермонтовым, отскочил, «как ужаленный», заключает свой рассказ: «...он имел душу добрую, я в этом убежден». «Недоброю силою веяло от него», – говорит Тургенев.
Что же, наконец, добрый или недобрый?
И то, и другое. Ни то, ни другое.
Самое тяжелое, «роковое» в судьбе Лермонтова – не окончательное торжество зла над добром, как думает Вл. Соловьев, а бесконечное раздвоение, колебание воли, смешение добра и зла, света и тьмы.
Он был похож на вечер ясный,
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.
Это и есть премирное состояние человеческих душ, тех нерешительных ангелов, которые в борьбе Бога с дьяволом не примкнули ни к той, ни к другой стороне. Для того чтобы преодолеть ложь раздвоения, надо смотреть не назад, в прошлую вечность, где борьба эта началась, а вперед, в будущую, где она окончится с участием нашей собственной воли. Лермонтов слишком ясно видел прошлую и недостаточно ясно будущую вечность: вот почему так трудно, почти невозможно ему было преодолеть ложь раздвоения.
«Верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные», – говорит Печорин. Но это – «необъятная сила» в пустоте, сила метеора, неудержимо летящего, чтобы разбиться о землю. Воля без действия, потому что без точки опоры. Все может и ничего не хочет. Помнит, откуда, но забыл, куда.
«Зачем я жил? – спрашивает себя Печорин, – для какой цели я родился?» Категория цели, свободы открывается в будущей вечности; категория причины, необходимости – в прошлой.
Вот почему у Лермонтова так поразительно сильно чувство вечной необходимости, чувство рока – «фатализм». Все, что было во времени, будет в вечности; нет опасного, потому что нет случайного.
Кто близ небес, тот не сражен земным.
Отсюда – бесстрашие Лермонтова, игра его со смертью.
«Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов, – сказано в донесении одного кавказского генерала, – во время штурма неприятельских завалов на реке Валерике имел поручение наблюдать за действием передовой штурмовой колонны, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот исполнил возложенное на него поручение с отличным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».
За экспедицию в Большую Чечню представили его к золотой сабле.
Игра со смертью для него почти то же, что в юнкерской школе игра с железными шомполами, которые он гнул в руках и вязал в узлы, как веревки.
«Никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице его перед дулом пистолета, уже направленного на него», – рассказывает кн. Васильчиков о последних минутах Лермонтова.
Не совсем человек – это сказывается и в его отношении к смерти. Положительно религиозного смысла, может быть, и не имеет его бесстрашие, но оно все-таки кладет на личность его неизгладимую печать подлинности: хорош или дурен, он, во всяком случае, не казался, а был тем, чем был. Никто не смотрел в глаза смерти так прямо, потому что никто не чувствовал так ясно, что смерти нет.
Кто близ небес, тот не сражен земным.
Когда я сомневаюсь, есть ли что-нибудь, кроме здешней жизни, мне стоит вспомнить Лермонтова, чтобы убедиться, что есть. Иначе в жизни и в творчестве его все непонятно – почему, зачем, куда, откуда, главное – куда?
VII
Лермонтов первый в русской литературе поднял религиозный вопрос о зле.
Пушкин почти не касался этого вопроса. Трагедия разрешалась для него примирением эстетическим. Когда же случилось ему однажды откликнуться и на вопрос о зле, как на все откликался он, подобно «эху»:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты нам дана? —
то вместо религиозного ответа удовольствовался он плоскими стишками известного сочинителя православного катехизиса, митрополита Филарета, которому написал свое знаменитое послание:
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.
А. И. Тургенев описывает, минута за минутой, предсмертные страдания Пушкина: «...ночью он кричал ужасно, почти упал на пол в конвульсии страдания. Теперь (в полдень) я опять входил к нему; он страдает, повторяя: „Боже мой, Боже мой! что это?..“ И сжимает кулаки в конвульсии».
Вот в эти-то страшные минуты не утолило бы Пушкина примирение эстетическое; православная же казенщина митрополита Филарета показалась бы ему не «арфою серафима», а шарманкою, вдруг заигравшею под окном во время агонии.
«Боже мой, Боже мой! что это?..» – с этим вопросом, который явился у Пушкина только в минуту смерти, Лермонтов прожил всю жизнь.
«Почему, зачем, откуда зло?» Если есть Бог, то как может быть зло? Если есть зло, то как может быть Бог?
Вопрос о зле связан с глубочайшим вопросом теодицеи, оправдания Бога человеком, состязания человека с Богом.
«О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мною борешься?»
Богоборчество Иова повторяется в том, что Вл. Соловьев справедливо называет у Лермонтова «тяжбою с Богом»; «Лермонтов, – замечает Вл. Соловьев, – говорит о Высшей воле с какою-то личною обидою».
Эту человеческую обиженность, оскорбленность Богом выразил один из современных русских поэтов:
Я – это Ты, о Неведомый,
Ты, в моем сердце обиженный[97].
Никто никогда не говорил о Боге с такой личною обидою, как Лермонтов:
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей?
Никто никогда не обращался к Богу с таким спокойным вызовом:
И пусть меня накажет Тот,
Кто изобрел мои мученья.
Никто никогда не благодарил Бога с такой горькою усмешкою:
Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
Вл. Соловьев осудил Лермонтова за богоборчество. Но кто знает, не скажет ли Бог судьям Лермонтова, как друзьям Иова: «...горит гнев Мой за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов», – раб Мой Лермонтов.
В книге Бытия говорится о борьбе Иакова с Богом:
«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, доколе не благословишь меня».
Вот что окончательно забыто в христианстве – святое богоборчество. Бог не говорит Иакову: «Смирись, гордый человек!» – а радуется буйной силе его, любит и благословляет за то, что не смирился он до конца, до того, что говорит Богу: «Не отпущу Тебя». Нашему христианскому смирению это кажется пределом кощунства. Но это святое кощунство, святое богоборчество положено в основу Первого Завета, так же как борение Сына до кровавого пота – в основу Второго Завета: «...тосковал и был в борении до кровавого пота», – сказано о Сыне Человеческом.
Я – это Ты, о Неведомый,
Ты, в моем сердце обиженный.
Тут какая-то страшная тайна, какой-то «секрет», как выражается черт Ивана Карамазова, – секрет, который нам «не хотят открыть, потому что тогда исчезнет необходимый минус, и наступит конец всему». Мы только знаем, что от богоборчества есть два пути, одинаково возможные – к богоотступничеству и к богосыновству.
Нет никакого сомнения в том, что Лермонтов идет от богоборчества, но куда – к богоотступничеству или к богосыновству – вот вопрос.
Вл. Соловьев не только не ответил, но и не понял, что тут вообще есть вопрос. А между тем ответом на него решается все в религиозных судьбах Лермонтова.
Как царь немой и гордый, он сиял
Такой волшебно-сладкой красотою,
Что было страшно, —
говорит Лермонтов о своем Демоне.«Он не сатана, он просто черт, – говорит Ив. Карамазов о своем черте, – раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки».
Вся русская литература есть до некоторой степени борьба с демоническим соблазном, попытка раздеть лермонтовского Демона и отыскать у него «длинный, гладкий хвост, как у датской собаки». Никто, однако, не полюбопытствовал, действительно ли Демон есть дьявол, непримиримый враг Божий.
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Никто этому не поверил: но что это не ложь или, по крайней мере, не совсем ложь, видно из того, что Демон вообще лгать не умеет: он лишен этого главного свойства дьявола, «отца лжи», так же как и другого – смеха. Никогда не лжет, никогда не смеется. И в этой правдивой важности есть что-то детское, невинное. Кажется иногда, что у него, так же как у самого Лермонтова, «тяжелый взор странно согласуется с выражением почти детски нежных губ».Сам поэт знает, что Демон его не дьявол или, по крайней мере, не только дьявол:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Статьи о русской литературе (сборник)"
Книги похожие на "Статьи о русской литературе (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Добролюбов - Статьи о русской литературе (сборник)"
Отзывы читателей о книге "Статьи о русской литературе (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.