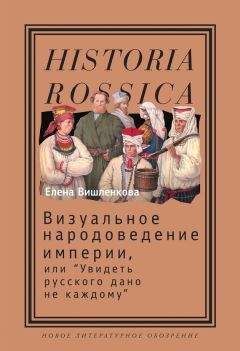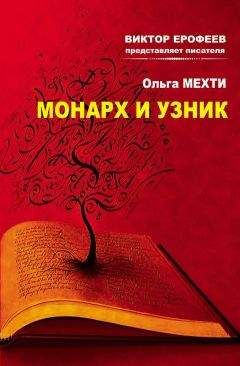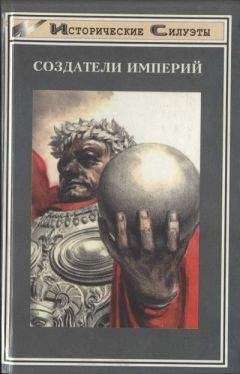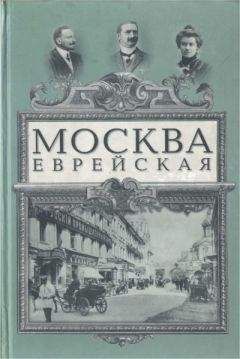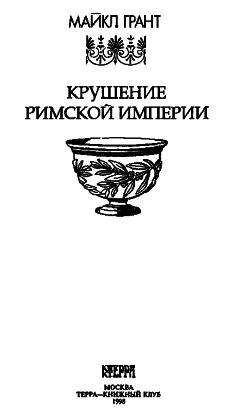Ольга Минкина - «Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской империи. 1772–1825

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской империи. 1772–1825"
Описание и краткое содержание "«Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской империи. 1772–1825" читать бесплатно онлайн.
На первом плане в этом исследовании – встреча различных представителей еврейского населения с имперской администрацией и аристократией, описанная как сложный процесс взаимодействия интересов, намерений и, конечно же, самих личностей. Ольга Минкина прослеживает динамику вхождения в империю различных земель бывшей Речи Посполитой, населенных евреями, параллельно с анализом изменений в восприятии евреев российскими бюрократами. Само еврейское население предстает в книге разнородным и сложно организованным конгломератом сообществ, пронизанным внутренними конфликтами. Не замыкаясь в рамках собственно еврейской истории, автор освещает целый ряд сюжетов и делает серию выводов, ценных для изучения общих проблем сословных привилегий в империи, механизмов и языков описания национальной и конфессиональной политики.
В данной работе впервые вводятся в научный оборот материалы канцелярии литовского военного губернатора, отражающие ход выборов еврейских депутатов в 1818 г.[94], в том числе документы, представленные губернатору собранием выборщиков в Вильно[95] и отражающие социальные и политические чаяния участников. Реализация этих целей возлагалась на будущую депутацию.
К этой же группе примыкают делопроизводственные материалы, отложившиеся в личных фондах государственных деятелей, соприкасавшихся по долгу службы с еврейскими депутатами. В фонде Н.П. Румянцева в ОР РГБ сохранился в копиях любопытный комплекс документов, связанных с созывом и функционированием собрания еврейских депутатов в Полоцке в 1773 г.: проект могилевского купца Беньямина Шпеера[96], ряд циркулярных распоряжений полоцкого губернатора[97], «доношения» в витебскую канцелярию от кагала, ремесленников и лиц, «не имеющих участия в собрании кагальском»[98], разработанный собранием проект «Уложения о кагалах»[99] и другие документы. По всей вероятности, эти копии были затребованы Румянцевым в связи с работой над «мнением» о евреях в 1802 г.[100], хотя в тексте самого «мнения» прямых отсылок к опыту полоцкого собрания не обнаруживается. Также в ОР РГБ, в фонде Кречетниковых, содержится переписка полоцкого губернатора М.Н. Кречетникова с белорусским генерал-губернатором З.Г. Чернышевым за апрель – июнь 1773 г., также связанная с еврейскими депутатами[101]. В фонде Воронцовых в РГАДА нами обнаружено прошение главе Коммерц-коллегии А.Р. Воронцову, автор которого, по его словам, был «избран целым обществом белорусских евреев»[102]. В личном фонде председателя Третьего еврейского комитета В.С. Попова в ОР РНБ содержатся служебные записи, относящиеся к первым дням работы комитета и его взаимодействию с прибывшими в столицу еврейскими поверенными[103].
Главной проблемой при использовании данного типа документов в нашем исследовании является то, что делопроизводственные документы отображают политическое поведение евреев сквозь призму ментальных установок российских бюрократов. Так, в отношении проводивших ревизию белорусских губерний в 1785 г. сенаторов А.Р. Воронцова и А.В. Нарышкина генерал-губернатору П.Б. Пассеку излагаются жалобы евреев, которые «изъясняли», что пристрастное отношение к евреям в судебных инстанциях «не может иметь места под благополучным царствованием ея императорского величества, под скипетром которыя столько разного звания людей спокойны и счастливы пребывают и где равно каждому и без различия веры всякая справедливость доставляется»[104]. Этот текст можно интерпретировать и как свидетельство того, что евреи довольно быстро усвоили официальную риторику и провозглашавшиеся Екатериной II идеологические принципы и добивались реального осуществления программы «просвещенного абсолютизма» применительно к евреям, и как изложение еврейских просьб русскими бюрократами в привычных для последних риторических формах.
Особый случай представляют собой еврейские прошения и проекты. Весьма важной задачей при работе с источниками этого типа представляется выявление соответствий между русскими и еврейскими терминами, использовавшимися для обозначения реалий еврейской жизни. В этом отношении, например, примечательна терминология проекта Маркевича 1820 г. Погребальное братство («хевра кадиша») обозначается как «товарищество похоронов (sic!) и могилокопателей»[105], глава хевра кадиша – габай – фигурирует как «настоятель»[106], в то время как еврейские представители именуются сразу двумя терминами: еврейским и русским: штадланы-«зачинщики», депутаты-«мешулахим»[107]. В проекте Г. И. Гиршфельда из Митавы (1825 г.) упоминаются совершаемые раввинами «духовные требы»[108]. Аналогичным образом, раввины обозначены как «духовенство веры нашей»[109] в более раннем документе: прошении «поверенных белорусского еврейского общества» Ц. Файбишовича и А. Еселевича в 1785 г. Назвать раввинов «духовенством» означало приравнять их к хорошо знакомому властям и совершенно по-иному организованному сословию. Примечательно использование в делопроизводственных документах термина «еврейские общества» как в качестве синонима кагала, так и для обозначения зачастую оппозиционных по отношению к кагалу обществ (хеврот). Также следует отметить отсутствие четкой терминологической дифференциации между понятиями «поверенные» и «депутаты». Одни и те же лица могли в одно и то же время обозначаться обоими терминами[110].
Содержание и оформление документов во многом диктовались формальными требованиями и предпочтениями адресатов. К тому же нанятый тем или иным евреем-просителем писарь (русский или поляк) мог выступать в качестве соавтора (а то и основного автора документа) – человека, который «сие прошение со слов просителя (по словам точным просителя) сочинял и переписывал» (типовая формула). Однако в нашем распоряжении имеются и документы, в которых такое указание отсутствует, и документы, собственноручно написанные евреями на русском языке.
Для выражения своих требований еврейские лидеры использовали два основных стилистических модуса, совпадавшие с приемами господствовавших литературных течений того времени. Первый комплекс риторических приемов связан с официальной и «патриотической» риторикой, использует идеи служения государству.
«Служба» на «благо Отечества» ассоциировалась в еврейских прошениях с поставками для армии и разведкой. Однако наиболее полное выражение темы «службы» мы находим в текстах, описывающих деятельность еврейской депутации при различных административных структурах. Депутаты, очевидно воспринимая себя в качестве государственных служащих, использовали для характеристики своей деятельности выражения «служба», «обязанность», «должность», которую они как «верноподданные» выполняли с «усердием», «честностью» и «преданностию».
Другой эстетической стратегией для оформления еврейских просьб и проектов было использование приемов, характерных для сентиментализма. В этом ключе был решен не только текст знаменитого «Вопля дщери иудейской» Лейбы Неваховича, но и прошения, казалось бы, далеких от российской изящной словесности купцов и кагальных, не говоря уже о еврейских депутатах и поверенных. Ключевыми для данного стилистического модуса являются утверждения о «невинности», «невинном страдании» евреев, которое требует от сановных адресатов действий, основанных не на формальном праве, а на «сострадании» и «обязанности человечества» (человечности). Проситель-еврей, очевидно, понимал смысл указов, которые зачастую привлекались им для подкрепления совершенно противоположных этому смыслу утверждений. Он предлагал власти принять это прочтение, апеллируя к таким категориям, как «милосердие», «человеколюбие», «справедливость», приписываемые адресату.
При этом данный тип нарратива ни в коей мере не является «нарративом ассимиляции». «Патриотическая», «сентиментальная» и «просвещенческая» риторика используется в нем для защиты ценностей еврейского общества, например еврейской одежды.
Следующей группой документов являются источники на древнееврейском языке: пинкасы общин и внутриобщинных объединений, постановления и воззвания о сборе денег, переписка депутатов с кагалами. Часть этих материалов опубликована[111], часть отложилась в составе делопроизводственных материалов[112]. Так же как и «высокая» литература, как традиционная раввинистическая, так и произведения «маскилим», эти документы были написаны не на разговорном языке – идиш, а на древнееврейском. Это обуславливало определенные особенности текста, такие, например, как включение языковых клише и цитат из Библии и Талмуда. Документы кагала и переписка депутатов с кагалами иногда, по требованию властей, стремившихся к контролю над еврейскими общинами, дублировались на русском языке. Это требование было закреплено «Положением о евреях» 1804 г., однако на практике выполнялось редко.
Библейские и талмудические выражения соседствуют с заимствованиями из русского языка, большинство из которых относится к пласту бюрократической лексики: «уезд», «губерния», «комитет», «пункты», «просьбы». Использование библейских цитат имело особый смысл. Тем самым указывалось на особую значимость «еврейской политики» не только в социально-экономической, но и в духовной жизни российского еврейства конца XVIII – начала XIX в. Символические аспекты политики, способы говорить и думать о власти трудно и почти невозможно отделить здесь от «практических» действий еврейских общинных лидеров. Взаимодействуя с внешней властью, они одновременно конструировали основанный на библейском тексте нарратив о своей деятельности.
Изложенные ниже наблюдения верны, по крайней мере, по отношению к еврейской депутации 1812–1825 гг. Документы депутации, равно как и документация кагалов, связанная с депутатами, четко разделяются на две группы. Первая, официальное делопроизводство депутации и кагалов, предназначенное для предъявления российской администрации, включает документы на русском языке, чаще всего построенные по формуляру бюрократического делопроизводства, в ряде случаев на бланках Министерства духовных дел и народного просвещения. Такого рода документы отложились в фонде виленской еврейской общины[113]. Наряду с официальной перепиской на русском языке депутаты вели переписку на древнееврейском с кагалами, раввинами, цадиками и частными лицами из числа еврейской элиты. Эта неофициальная переписка постоянно вызывала подозрения властей, часто конфисковывалась и перлюстрировалась. На основании этих документов депутаты и их корреспонденты обвинялись в организации беспорядков среди еврейского населения[114]. Так, в 1824 г. виленский еврей Хаим Нахман Перцович был привлечен к следствию за «предосудительную» переписку, которую он вел с еврейским депутатом Михелем Айзенштадтом. Он признался, что «письмо сие истребил»[115]. Аналогичным образом поступал в том же году еврей из Дубно, некто Скульский, утверждавший на следствии, что письма депутатов «уничтожил и не упомнит содержания оных»[116]. Можно предположить, что эта практика была весьма распространенной. Таким образом, на сохранность документов на древнееврейском языке, связанных с депутацией, влияла и политика властей, расценивавших как противоправные действия те взаимоотношения депутатов с еврейским населением, которые осуществлялись вне сферы административного контроля.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской империи. 1772–1825"
Книги похожие на "«Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской империи. 1772–1825" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Минкина - «Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской империи. 1772–1825"
Отзывы читателей о книге "«Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской империи. 1772–1825", комментарии и мнения людей о произведении.