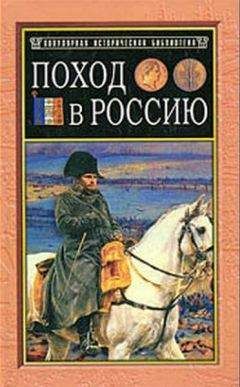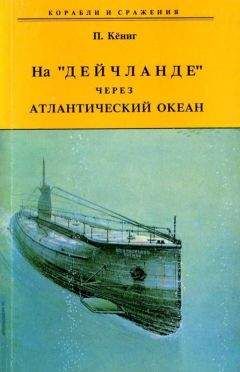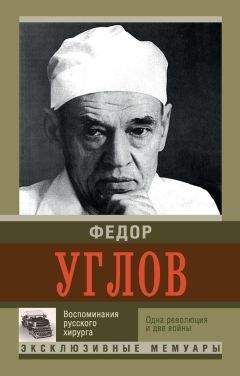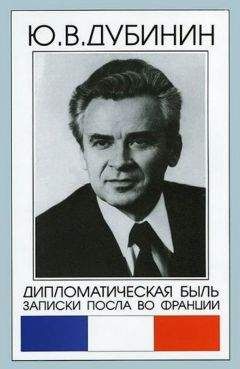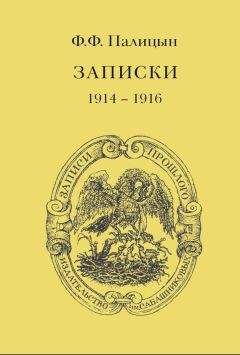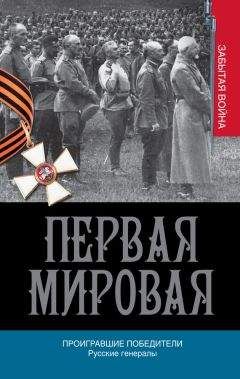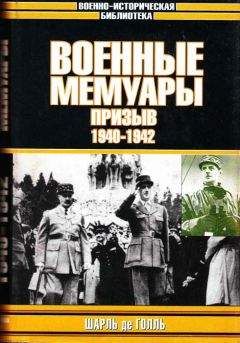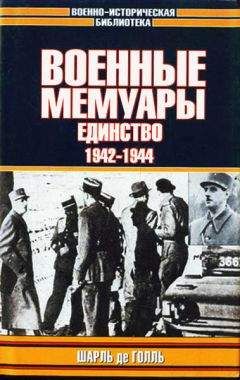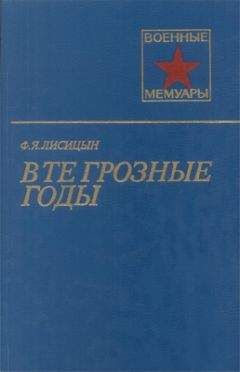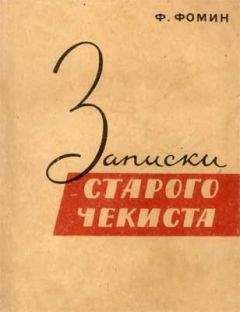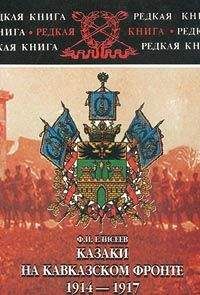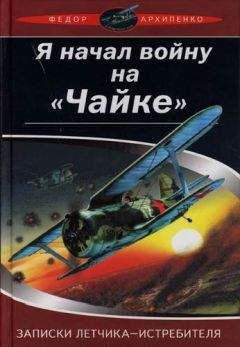Федор Палицын - Записки. Том II. Франция (1916–1921)
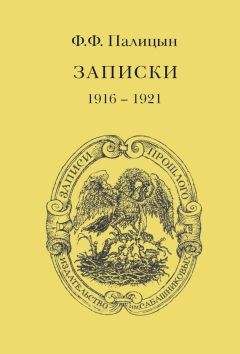
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Записки. Том II. Франция (1916–1921)"
Описание и краткое содержание "Записки. Том II. Франция (1916–1921)" читать бесплатно онлайн.
Во 2 томе воспоминаний Фёдор Фёдорович Палицын описывает события с 1916 по 1921 годы, с момента своего назначения представителем Ставки в Военном совете союзных армий во Франции. Его глазами мы следим за действиями Русского экспедиционного корпуса, операциями союзников во Франции и Салониках, работой правительственных учреждений и военачальников английских, французских и американских частей.
Происходит революция в России, новая власть ведет сепаратные переговоры с Германией в Брест-Литовске. Новообразовавшиеся Польша, Украина, Прибалтийские государства преследуют свои интересы. Россия распадается на куски. Русские генералы Деникин, Колчак, Врангель не могут договориться с бывшими союзниками по Антанте, а Соединенные Штаты навязывают европейским политикам свои условия на мирных переговорах. Ллойд Джордж, Вудро Вильсон, Клемансо, Гинденбург – каждый ведет свою игру. Мелькают люди разного социального статуса, появляются и исчезают различные эмигрантские организации: во всем неопределенность. Ослабленная после Великой войны Европа меняется на глазах. И во всей этой сумятице русский генерал пытается заглянуть в будущее России.
Публикуются впервые.
Снова заговорили о единстве командования всем западным фронтом. Поздновато. Я вел эти разговоры в декабре 1916 года с Лиоте, Нивелем и Хейгом, выйдя собственно говоря из пределов моих полномочий. Но все это рухнуло, ибо желали вести войну правительства. И наше правительство ведет войну и хочет одновременно править государством. У нас много голов, у врага одна голова и воля. <…>
Я не хочу быть пессимистом, но когда сравниваешь обе борющиеся стороны за все время войны, то поневоле опустишь голову, ибо выхода из создавшегося положения нет. И как все стараются найти это объединение. Собираются конференции, министры разъезжают, завтракают, а до объединения военной власти мы дожить никак не можем.
30 ноября 1917
С четверга 28 ноября в Париже заседает международная конференция{97}. В этот же день, Гертлинг произнес свою речь{98}. Рейхстаг – положение для России гибельное, для союзников грозное, для врагов наших чрезвычайно благоприятное, если только внутреннее положение Германии, Австрии и остальных, не скажу, чтобы соответствовало бы их военному, но было бы сколько-нибудь для них сносное. Даже подводная война, понемногу утихавшая по жертвам последней недели, дала подъем. События в нашем Отечестве таковы, что вера в будущее его начинает колебаться. К внутреннему разладу прибавляется внешний. Харбин, говорят, взят китайцами, Владивосток будет занят японцами. Украина, Кавказ, Бессарабия и Финляндия отделяются. Тоже проявится с Туркестаном, Сибирью и т. д.
Кто захочет, тот и провозгласит свою самостоятельность, благо Петроградские правители, в лице Ленина{99} и присланных, приглашают всех к такому отделению. Сплошной сумасшедший дом. Вместо великого, еще в недавнем, государства, в несколько месяцев могучее государство обратилось в ничто, и не от внешнего врага, а деяний умов и рук собственных сынов.
Кругом идет какое-то необузданное самоуничтожение, истребление государственных богатств: разрушение Кремля и храма святого Василия Блаженного, храма Вознесения – исторических памятников России. С Воробьевых гор тяжелой артиллерией разрушают Москву и убивают обывателей, стреляют по Киеву, убивают. Грабят Зимний Дворец, Эрмитаж, Государственный Банк, частных обывателей. И кто же это? Свои сыновья; зачем? Кто же эти сыновья? Ведь это лучшее, что должно было быть в стране – солдаты.
Что же останется делать тем, что похуже, и что Россия должна пережить от них? Но как могло это случиться, что цвет России спустился до низкого грабителя и бесчеловечного разбойника? Что могло довести нашего солдата до такой низости, о которой поколения будущего будут внимать с отвращением? Не все же русские солдаты сделались величайшими врагами своего отечества. Но как это случилось, что добродушный русский народ обратился в зверя, хуже, чем в зверя? <…>
2-XII-17
Назначенный максималистами Верховный главнокомандующий Крыленко{100}, доехавший до 5-й армии, послал своих делегатов к немцам толковать о перемирии и мире. Они были приняты торжественно и со 2 декабря переговоры должны начаться. В Петрограде и может быть по всей России идут выборы в Учредительное собрание. В самом Петрограде формируется новое собрание из максималистов, социал-революционеров, крестьян, рабочих и других союзов для образования Совета, как органа правящего. В сущности, Россия безмолвно созерцает, что творится в Петрограде, выжидая, какой приговор ей будет оттуда вынесен. Гвоздь всего положения – быть или не быть миру. Будет мир, те, которые этот мир поднесут, будут до поры до времени хозяевами положения, уляжется хмель, и не увидят результатов этого мира. Но ошибаются те, которые думают, что мир можно заключить скоро. Но если вместо мира мы подойдем к перемирию, т. е. к тому положению, в котором мы находимся, то негодование будет великое.
Положение так сложно и так запутано, что нужно много времени, чтобы его распутать, а расходившиеся страсти требуют быстрого решения, а главное, удовлетворения всех тех, которые не желают бороться. Чем выразится, когда станет ясно, что заключить мир нельзя, хотя бы самого позорного для России, а можно подойти только к перемирию – это покажет ближайшее будущее. Если Германия немощна и ей во что бы то не стало нужен мир, и она пойдет на предлагаемый мир, тогда дело несколько видоизменится, но тогда наша глупость, пошлость и политическая дряблость станут во всю. Иначе говоря, мы были близки к победе, и сами ее задушили своими собственными руками.
Простим ли мы это нашим правителям, простит ли нам мир? Германия и Австрия идут с радостью на наше предложение. Разве это не признак их очень тяжелого положения? Какое-то сильное внутреннее чувство говорит мне, что все произошедшее с марта, и в особенности, все происходящее теперь, накладывает на всю Россию такой стыд, который она не в силах будет смыть веками. А народ в стыде жить не может. Мы не побеждены врагами, мы сами себя уничтожаем материально и нравственно. Люди останутся, но государство самостоятельно в таких условиях существовать не может. Продана бедная Россия подлыми людьми и подлыми чувствами.
2-XII-17
Сегодня уполномоченный Крыленко должен начать переговоры о перемирии с делегатами германского государства. Гордая Германия переговаривается с неизвестно от кого говорящими посланцами, от правительства, пока не существующего, и никем не признанного, даже в Петрограде. Если это только маневр, то некрасивый, но если же это серьезно с их стороны, то каково же сильно желание, не брезгуя ничем, получить мир. Значит, несмотря на военные успехи, нехорошо текут дела Германии. Выходит, в самое нужное для Германии время, мы открываем ей свои объятия, изменяя себе и общему делу. B этом я вижу измену общему делу Ленина, Троцкого{101} и их сподвижников. Они люди умные и не знать этого не могут. Так же они должны знать, что если не действовать, то тянуть мы можем еще очень долго. Почему же они делают то, что невыгодно нам, и в тоже время выгодно, и желательно нашим врагам?
Почему же Ленин и ему подобные, расстроившие все военные начала, и обратившие армию в самодовольную политическую толпу, могут рассчитывать, что армия в настоящем ее устройстве будет послушным их орудием, как правительства. Я не сомневаюсь, что 7/8 с ленинским миром не согласны, ибо в армии, несмотря на ее расстройство, все-таки живет душа, и какое-то инстинктивное понимание государственных интересов. (Февраль. Горько я ошибался. Армии нет, а есть толпа вооруженных людей.)
И это все скажется. Ни Ленин, ни Троцкий, прожившие заграницей, интернационалы, а не русские, оторванные от своего отечества, его ненавидящие, не любящие, эту струю народной массы не чувствуют, не понимают и понять не могут.
А если они подкуплены?
Из всего этого выиграют только немцы, мы, как полагается, останемся все-таки в дураках, и при том совершим такой поступок, стыд которого не будет смыт многими поколениями. Трудно разобраться в причинах, которые привели нас к этому постыдному концу.
Включительно до 1912 года мы чувствовали себя слабыми, неподготовленными, и события 1911 и 1912 гг., когда наше решительное слово могло видоизменить события на Балканском полуострове и, быть может, если не предотвратить, то отсрочить катастрофу 1914-го года – мы как страус, спрятав голову, молчали. Затем мы вдруг воспрянули. Тот же Сухомлинов, который в 1912-м году лил слезы в жилет И.П. Лихарева, что ничего у нас нет, в 1913 году уже принял другой вид. Впопыхах начали разрабатывать большую программу, думая, что если на бумаге она будет, то все прекрасно.
На самом деле все было, по-старому, и только армия, с 1906 года упорно работавшая над тактическим своим улучшением, и подъем духа в ней, являлись отрадным фактом на этом сером и безотрадном фоне.
Войны в России никто не желал, но мирная воинствующая манера разговора людей, стоящих при военном деле, – повысилась. Газеты как будто поддерживали это. По сравнению с недавним прошлым, после Японской войны в обывателе выразился какой-то подъем. И Дума, отпустив несколько сотен миллионов, тоже как будто приподнялась. Как будто деньги сами по себе что-то могут сделать.
Когда война вспыхнула, у нас все приподнялось, и это было отрадное явление, много обещавшее, если только в дальнейшем правители воспользовались этим подъемом и поставили бы это народное движение, что для борьбы нужно, в должные рамки. К сожалению, это не было сделано, и на фронте и дома серьезный наблюдатель тех и других явлений мог бы подметить, что дело идет не ладно, и что мы мечемся, как угорелые, и результаты сказались очень скоро.
Ни правительство, ни военное министерство, ни Генеральный штаб, не сумели взять в свои руки это движение общественных сил, чтобы организовать его соответственно потребностям войны и сберечь войска от излишества или недостатка, и вся эта сила потекла сама по себе, врознь, где с пользой, где с вредом. Не было головы, не было организации, которая, задумавшись над течением войны, установила бы какие либо начала к широкому, разумному, хозяйственному использованию средств страны для войны. Ошибочно было заявление, что мобилизация протекала не блестяще. Привыкшее к буйству маршевых команд в японскую войну и в последующие годы общество было удивлено, что таких буйств было мало, и народ серьезно поднялся на войну. Правда, без водки, которая была прикрыта. По существу же мобилизация была не расчетливая, и иной не могла быть, ибо для ее упорядочения с 1906 ничего не было сделано. <…>
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Записки. Том II. Франция (1916–1921)"
Книги похожие на "Записки. Том II. Франция (1916–1921)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Федор Палицын - Записки. Том II. Франция (1916–1921)"
Отзывы читателей о книге "Записки. Том II. Франция (1916–1921)", комментарии и мнения людей о произведении.