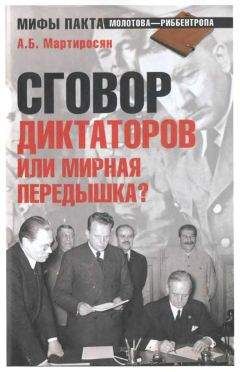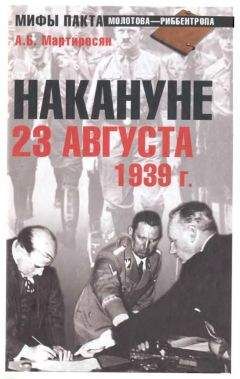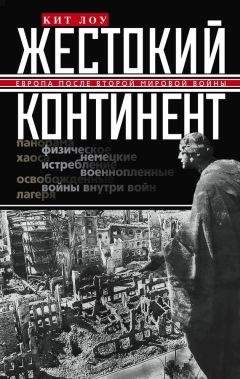Владимир Наджафов - Пакт, изменивший ход истории

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пакт, изменивший ход истории"
Описание и краткое содержание "Пакт, изменивший ход истории" читать бесплатно онлайн.
Дважды на протяжении полувека — в 1939 и 1989 годах — международные последствия пакта о ненападении, заключенного между СССР и Германией 23 августа 1939 года, были наглядно-взрывными с последующим критическим ускорением хода событий и сменой де-факто вектора мировой политики. В первый раз — когда пакт, одномоментно и круто изменив баланс сил в Европе, укрепил Гитлера в решимости напасть на Польшу, что ознаменовало начало Второй мировой войны. Во второй раз наследие советско-германского пакта шумно сказалось в 1989-1991 годах после признания советской стороной — впервые, публично, на весь мир — факта подписания секретного протокола к пакту о «разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе» и объявления всех секретных договоренностей с Германией недействительными с момента их подписания. Это привело к еще одной структурной перестройке международных отношений, вызвав развал Советской империи и самого СССР.
В книге рассматриваются различные аспекты проблемы происхождения и природы Второй мировой войны с акцентом на фактор классово-имперской политики сталинского Советского Союза, включая как непосредственные, так и долгосрочные историко-геополитические последствия советско-германского пакта. Она основана на широкой документальной базе, в частности — на материалах архивов России и США.
О значении помощи со стороны США и Англии «в обнаженной форме» высказывается в своих воспоминаниях Н.С. Хрущев. В «вольных беседах» между наиболее приближенными к нему членами Политбюро ЦК Сталин «прямо говорил, что если бы США нам не помогли, то мы бы эту войну не выиграли: один на один с гитлеровской Германией мы не выдержали бы ее натиска и проиграли войну». Хрущев, соглашаясь с мнением Сталина, услышанным им «несколько раз», поставил целью в своих широко известных воспоминаниях «аргументировать со свой стороны то, что говорил Сталин, и то, что я сам тогда видел и понимаю»{126}.
Из опубликованной переписки И.В. Сталина с У. Черчиллем явствует, что в первые месяцы советско-германской войны, то есть в самое критическое время для Советского Союза, Сталин испытывал острую нужду в западной помощи. В начале сентября 1941 г. он писал У. Черчиллю об ослаблении «нашей обороноспособности», что «поставило Советский Союз перед смертельной угрозой». Сталин просил об открытии второго (сухопутного. — В. Н.) фронта «где-либо на Балканах или во Франции», чтобы оттянуть с восточного франта 30–40 немецких дивизий, «и одновременно обеспечить Советскому Союзу 30 тыс. т алюминия к началу октября с.г. и ежемесячную минимальную помощь в количестве 400 самолетов и 500 танков (малых или средних)»{127}. Вскоре, в другом письме У. Черчиллю, он просил англичан «высадить 25–30 дивизий в Архангельск или перевести их через Иран в южные районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на территории СССР… Это была бы большая помощь»{128}. В дальнейшем Сталин вновь ратовал за «принятие соглашения о совместных действиях советских и английских войск на нашем фронте»{129}.
Хотя по окончании войны официальная пропаганда утверждала обратное, Советский Союз нуждался в помощи западных стран не меньше, чем они в советской.
Взаимная помощь государств Советско-западной коалиции отвечала чаяниям широких масс, чье активное участие превратило войну коалиции в освободительную миссию. Однако проявленная во Второй мировой войне антифашистская солидарность масс была подготовлена не столько политикой и деятельностью властвующих элит государств коалиции, сколько активностью наиболее продвинутой, образованной части человечества — интеллигенции, олицетворявшей собой самое передовое, благородное, гуманное. Рост интеллектуализма стимулировал тягу к углубленному миропониманию, включая проблемы всеобщие, интернациональные. Неуклонное возвышение в общественной структуре многих стран роли науки и ее носителя — интеллигенции, ставшей наиболее динамичной частью современного общества, стало важнейшим фактором распространения в XX веке идей общности интересов человечества.
В борьбе против фашизма и милитаризма ускорилась смена приоритетов общественных ценностей, еще недавно слишком близко связываемых марксистами с рабочим классом. Б противостоянии сил тоталитаризма и демократии дискредитировали себя как международное коммунистическое движение, представленное III Интернационалом, так и европейская социал-демократия, не сумевшие стать действенной преградой на пути сил агрессии и фашизма. Это доказало преходящий характер исторического потенциала пролетариата — такого, каким его представляли классики марксизма-ленинизма. А социалистический опыт нацистской Германии и сталинского Советского Союза, прозорливо сведенный воедино в их тоталитарной сущности B.C. Гроссманом в эпохальном романе «Жизнь и судьба», показал всю опасность следования идеям, отталкивающимся от классового или расового антагонизма. Каковы идеи, таковы и последствия.
Фактом истории является то, что именно интеллигенция — «разумная, образованная, умственно развитая часть жителей» (В. Даль), а не какая-либо иная социальная сила, была и остается главным противником тоталитаризма в любом его проявлении, будь то немецкий национал-социализм или социализм советского типа.
На стадии обсуждения рукописи моей монографии об антивоенно-антифашистском движении 1930-х годов в США{130} со стороны одного из рецензентов, в прошлом работника ЦК КПСС, высказывалось недоумение по поводу того, что движение против наступления мирового фашизма направлялось не американским рабочим классом, а интеллигенцией; что инициаторами массового движения были представители интеллигентских слоев, а не рабочие профсоюзы. Но такова была американская реальность, с ней приходилось считаться и нью-йоркской коммунистической газете Daily Worker, из которой я черпал многие факты. Если говорить о внутренних причинах крушения советского тоталитаризма, то не в последнюю очередь следует иметь в виду возрождение интеллигенции с ее созидательным потенциалом. И хотя коммунистические власти всегда с подозрением относились к интеллигенции, видя в ней скрытого врага, после смерти Сталина второго издания Большого террора не получилось.
Антифашизм интеллигенции означал колоссальное расширение практики применения морально-этического принципа к общественным явлениям. Справедливо отмечая минусы идеологизации международных отношений в XX веке и столь же справедливо увязывая это с великодержавной политикой, в то же время нельзя не отметить и определенный позитивный момент в акценте на идеологию как фактор межгосударственных отношений. Момент, привнесенный в эти отношения интеллигенцией благодаря ее настойчивости в отстаивании необходимости выбора между добром и злом, решения мировых проблем с позиций общечеловеческих ценностей. Недаром еще в середине XIX века основоположники марксизма отмечали усиливающееся стремление к тому, чтобы «простые законы нравственности и справедливости», которыми руководствуются в своих взаимоотношениях порядочные люди, стали высшими законами и в отношениях между народами{131}.
Другое важное обстоятельство, связанное с ролью интеллигенции в новейшей истории, — это дальнейшее развитие процесса интернационализации (сейчас оперируют больше понятием глобализации). То есть умножение и выдвижение на первый план, актуализация общих для разных стран и народов проблем и целей, диктующих координацию их усилий в мировом масштабе. Публичные осуждения фашизма и его агрессии в предвоенные годы сыграли свою роль в формировании мирового антифашистского общественного мнения, подготавливая этим морально-политическую базу борьбы против тоталитаризма.
Но не успела закончиться война, как между союзниками началась откровенная борьба за то, чтобы решить вопросы послевоенного мирного урегулирования в свою пользу{132}. Уже во время войны, говорилось в декларации по вопросу о международном положении первого совещания Коминформа в 1947 г., в определении как целей войны, так и задан послевоенного устройства между союзниками существовали различия, которые стали «углубляться» в послевоенный период{133}. Суть многочисленных оценок советско-западных отношений периода мировой войны, которые давались Сталиным и его преемниками в Кремле, сводилась к тому, что во время войны Советский Союз проводил ту же внешнюю политику, что и до войны. Что соответствует действительности: советская внешняя политика была и оставалась антикапиталистической. Следовательно, и антизападной.
Как стороне, побеждавшей врага на главном фронте мировой войны, СССР удалось навязать западным союзникам раздел Европы по соглашениям в Ялте и Потсдаме. К. Закорецкийвкниге «Третья мировая война Сталина» приходит к выводу, что уже в период ялтинских переговоров и даже ранее Сталин отрабатывал планы подготовки новой мировой войны{134}. В.М. Молотов по-своему объясняет раскол в послевоенной Европе: западные союзники-«империалисты» рассчитывали в конечном счете на ослабление Советского Союза в результате войны. Но: «Тут-то они просчитались. Вот тут-то они не были марксистами, а мы ими были. Когда от них пол-Европы отошло, они очнулись. Вот тут Черчилль оказался, конечно, в очень глупом положении»{135}.
Чем же была в таком случае Вторая мировая война, если к ее концу — как это ни покажется немыслимым — союзники считались с возможностью продолжения войны, но на этот раз уже между самими победителями? Каким образом могла возникнуть такая война, по чьей инициативе?
Обратимся к доступным документальным свидетельствам.
Прежде всего, — к сенсационному заявлению, сделанному летом 1983 г. на сессии Верховного Совета СССР А.А. Громыко, в то время — члена Политбюро ЦК КПСС, первого заместителя главы правительства и многолетнего министра иностранных дел. В его докладе о международном положении впервые с советской стороны было публично заявлено о том, что сразу по окончании мировой войны не исключалась новая война, на этот раз между победоносными союзниками — СССР и западными странами.
Речь А.А. Громыко была выдержана в резко антиамериканском тоне — Холодная война переживала очередной пик напряженности. Его гнев вызвали высказывания неназванных американских деятелей о том, что США, обладая с конца войны атомной монополией, тем не менее не стали диктовать свою волю Советскому Союзу. В ответ Громыко призвал взглянуть на события того времени, как он выразился, «с другого угла». Он рекомендовал американцам подумать вот над чем: «А что мог сделать Советский Союз, когда фашистская Германия уже была повержена, и до каких рубежей мог дойти могучий вал советских армий, только что перемоловших гитлеровскую военную машину, если бы СССР не был верен своим союзническим обязательствам?»{136}. Поразительно! Получается, что после разгрома нацизма Советский Союз «мог»(!?) повернуть «могучий вал советских армий» против своих же союзников, продолжив, сметая все на своем пути, движение в западном направлении, к Ла-Маншу и Атлантике.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пакт, изменивший ход истории"
Книги похожие на "Пакт, изменивший ход истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Владимир Наджафов - Пакт, изменивший ход истории"
Отзывы читателей о книге "Пакт, изменивший ход истории", комментарии и мнения людей о произведении.