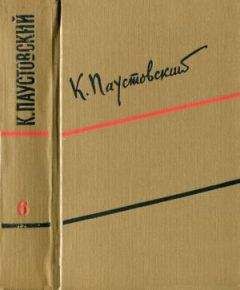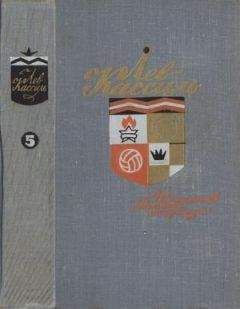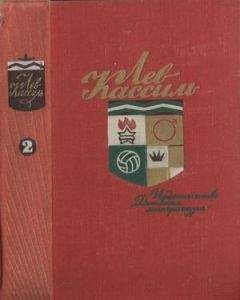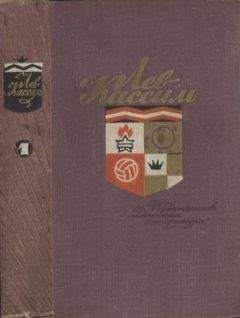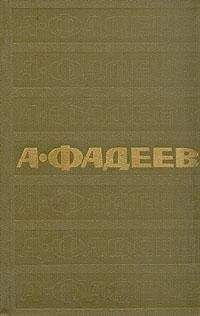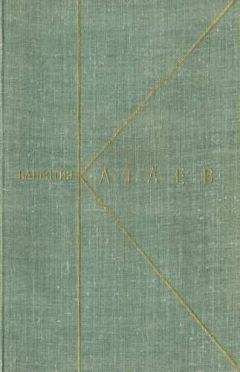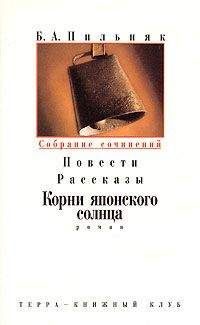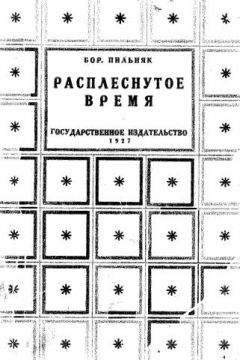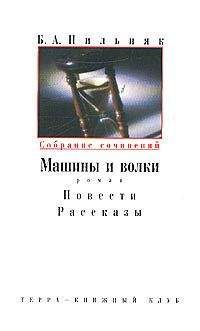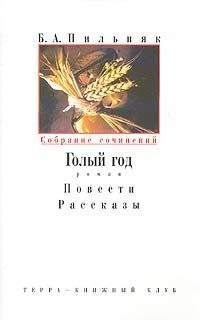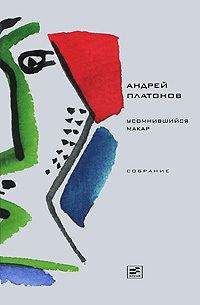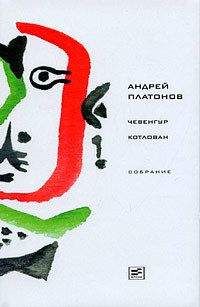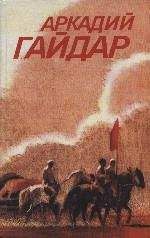Борис Пильняк - Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар"
Описание и краткое содержание "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар" читать бесплатно онлайн.
Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) – известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все восстановленные от купюр и искажений произведения автора.
В шестой том Собрания сочинений вошли романы «Созревание плодов», «Соляной амбар».
– Да, конечно, реставратор необходим, пожалуйста, пришлите, спасибо!..
И третий, кто ехал с Сергеем Ивановичем на автомобиле, – был именно этот реставратор, Павел Павлович Калашников. Он пришел к Арбекову за два дня до поездки, утром, не предупредив. Давно уже исчезли в России мастеровские картузы с лакированным козырьком, мастеровской не то пиджак, не то сюртук, сапоги в гармошку, рубашка навыпуск с пояском в кистях. И совершенно исчезли прическа «в кружок», полудьяковского фасона, борода и усы. Пришедший и причесан был в кружок, и тощая бородка росла у него на шее, и картуз у него был с лакированным кожаным козырьком, черный воронообразный, столетний. Он отрекомендовался:
– Павел Павлович Калашников, художник-реставратор, – и улыбнулся совершенно детскими глазами. Он потрогал складень, как библиофил инкунабулу. Пальцы его были очень длинны, руки бессильны. Лет ему было – двадцать пять, двадцать семь. Глаза его над складнем восхищенно засветились. Он заговорил языком семнадцатого века. Было совершенно ясно – знаток, человек призвания, – Алеша, что ли, Карамазов? – и это в тридцать пятом году! – Разговор пошел о византийском влиянии на русскую иконопись, о новгородском, владимиро-суздальском, ярославском, московском иконописных стилях. Калашников оказался совершенным знатоком не только русской иконописи, но всей русской истории. Арбеков спросил:
– Вы что же, иконно-реставрационную работу по наследству ведете? – не палешанин ли? – вы откуда родом?
– Нет, я московский. Меня с детства старина манила. Мой отец – столяр. Окончив семилетку, я пошел учиться в государственные реставрационные мастерские, окончил, работаю. – И Калашников спросил в свою очередь: – А вы много по иностранным землям бывали?
– Был, – ответил Арбеков. – Много.
– Мне не доводилось бывать, не знаю, – чо имею предположение, что нету лучше русского народа. Русский народ – хороший народ, сердечный, культурный, вдумчивый, – Павел Павлович помолчал, – ласковый народ. Я, когда у меня свободное время, путешествую, на поезде и пешком. Был во Владимире, – до Суздаля, к сожалению, не дошел… Был в Новгороде Великом, в Ростове Великом, в Переяславле Залесском, во Пскове… Древний русский народ, ласковый…
Сергей Иванович собирался в Палех. Дорога лежала через Владимир, Суздаль, Иваново, Шую. Двадцать один год тому назад, в год мировой войны, этому Павлу Павловичу Калашникову было, поди, лет пять, шесть. Война, революция, новая страна, новые поколения, – а перед Арбековым, со складнем на руках, сидел паренек, свалившийся с семнадцатого века, причем у паренька были тощие глаза и пальцы, но телосложения он был крупного и сытого. Такие люди не попадались Арбекову на глаза, – тихий паренек, ласковый, мастеровой по реставрации икон, никак Арбекову не нужных. Разглядеть паренька казалось любопытным.
Арбеков сказал:
– Послезавтра я поеду в Иваново, проедем через Владимир и Суздаль…
– К Покрову, к Покрову на Нерли надо заехать, обязательно надо побывать там, и Боголюбов миновать невозможно, – молвил Павел Павлович, вздохнул и опустил глаза, точно прятал их в воспоминания.
– Ну, так вот, едемте со мною. Доедете до Иванова, оттуда вернетесь поездом. Приходите послезавтра в три часа.
Павел Павлович порозовел, как девица, еще ниже опустил глаза и прошептал:
– Я поеду… я поеду, если позволите… двенадцатый век! века!..
Пришел Павел Павлович Калашников – в архалуке неизвестного фасона, вроде священнического пальто, совсем без вещей, даже без мыла с полотенцем, – ровно в три часа. Яков Андреевич, рабочий, автомобилист, – сразу окрестил Павла Павловича монахом, бесполезным грузом. Опоздали, выехали в семь. За руль сел Арбеков. Яков Андреевич на ходу обслуживал машину, работу мотора, скрип рессор. До Ногинска ехали пятьдесят минут. От Ногинска – на каждых десяти метрах поминали недобрым словом Цудортранс: дорога оказалась поистине ужасной, куда хуже, чем если б можно было ехать целиной. Монах до Ногинска наслаждался быстротой движения, приговаривал, – «как на ковре-самолете лечу!» – и за Ногинском наслаждался – туманами, русалочьими косами, пейзажами – к вящему расстройству Якова Андреевича, который поминал Цудортранс и презирал пейзажи, раз они лежат вокруг такой паршивой дороги, не жалеющей рессор и его, Якова Андреевича, труда и нервов.
Туманы, действительно, заплетали дорожные ухабы. В туманах пели соловьи, десятки, сотни соловьев. В туманах растворялась поэзия. Туманы – русалочьи косы – напоминали о русском дохристианском фольклоре. Ночь не могла окончательно побороть дня, заря сходилась с зарей. Небо было зелено, зыбко, просторно. Зеленые пейзажи за туманами и под июньским небом напоминали видения снов. Горько и сладостно пахло березой. Старое Владимирское шоссе – Володимирка – дорога каторжников и преданий о них, дорога разбойничьих истин и разбойничьих монастырей, кандального звона и смерти – была разворочена автомобилями из Горького, как новостройка. У дороги горели костры – парнишек из ночного, прохожих, дорожных работников. Костры сказывали о володимирских преданиях. Павел Павлович узревал за кострами, в костровом дыме, русалок, о чем и говорил. У одного из костров остановились охладить машину и поесть.
И слушали историю царя Ивана.
Во Владимир дорогою русалок, кандальников и Цудортранса все же приехали к часу ночи и без поломок. Остановились в гостинице столетних времен, на дворе которой обязательно останавливался тарантас писателя Соллогуба, во времена Гоголя, а в ресторане которого, если бы долго жил во Владимире, обязательно спился бы писатель Герцен. Автомобиль оставили на улице, на перекрестке, неподалеку от поста милиционера, рассчитывая, что здесь ему будет покойнее, чем на дворе, где стаивал соллогубовский тарантас. С монахом была тетрадь, в которой церковно-славянской вязью он изложил справки о владимиро-суздальской стороне.
За дорогу до Владимира выяснилось, что пахнет от монаха луком и олифой так невозможно, что Яков Андреевич, пропахший бензином и тавотом, всерьез задумывался, не заночевать ли ему в машине. Ели на сон грядущий, и монах по рассеянности съел весь хлеб, рассчитанный до Иванова.
Утром осматривали старину. Владимирские памяти связаны с Андреем Боголюбским и с сыном его Всеволодом, с двенадцатым веком. От тех времен остались крепостные ворота, называемые Золотыми, и два собора. От Золотых ворот идут рвы, около коих с точностью, точно это было на той неделе, показывают, где татары ворвались во Владимир без малого семь веков тому назад. Коммунальное хозяйство владимирского РИКа повесило ныне на Золотые ворота коммунальные часы с электрическим заводом. Церкви двенадцатого века – одна из них за последние лет двадцать пять растрескалась – разваливаются и развалятся, если не наедут реставраторы-архитекторы и не закрепят трещин. Во владимиро-суздальской церковной архитектуре все церковные колонны и своды обязательно покоятся на львах. Откуда в двенадцатом веке на Клязьме и на Нерли эти львы? – Есть летописные справки, что Андрей Боголюбский был в родстве с Фридрихом Барбароссой, и есть предположение, что соборы строились ломбардскими архитектора ми, и они-де и завезли львов. Но у шведов, норвежцев, датчан, финнов львы – национальный герб, – и не оттуда ли львы у подножий колонн владимирских соборов? – государственный герб Андрея Боголюбского – каков? В Успенском владимирском соборе, в том самом, который осаждался татарами и был последней цитаделью владимирцев, – в этом соборе хранились мощи Андрея Боголюбского и хранятся фрески Андрея Рублева, равно как расчищены фрески от двенадцатого века, сделанные греками. Летопись передавала о Боголюбском, что в гордости своей и в величии он никогда не склонял головы, что во внимательности своей он никогда, даже во сне, не закрывал окончательно глаз, что погиб он, изрубленный боярином Кучкой с сыновьями, причем бояре в ненависти своей рубили Боголюбского даже тогда, когда он умер. Мощи Андрея Боголюбского вскрыты, перенесены из собора в музей. Мощей никаких не оказалось, были лишь кости, но кости подтвердили летописные записи. На многих костях, на костях рук и ног, на ребрах, на черепе остались следы многих ударов меча. Гистологи Академии наук обследовали эти кости. Удары наносились долго, часами спустя после того, как человек умер от первых ударов. Гистологи ж установили, что шейные позвонки Андрея Боголюбского были сращены базедовой болезнью, – не по гордости и не по внимательности не склонял головы и не закрывал глаз Андрей Боголюбский, но по болезни. Росту ж был князь Андрей невероятного – на полголовы выше царя Петра. Сергей Иванович брал в руки череп и кости князя-феодала. Никакого священного трепета не было, – восемь веков тому назад человек, обладавший этими костями, был страшен. Павел Павлович Калашников стоял у костей безмолвно, по-монашески. Яков Андреевич подержал в руках череп, взвешивая его, положил на место и молвил, обращаясь к Арбекову:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар"
Книги похожие на "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Пильняк - Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар"
Отзывы читателей о книге "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар", комментарии и мнения людей о произведении.