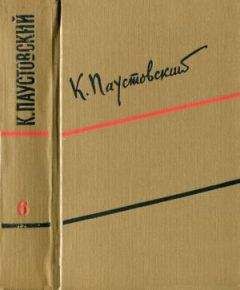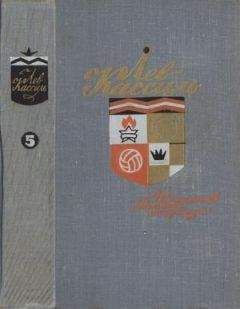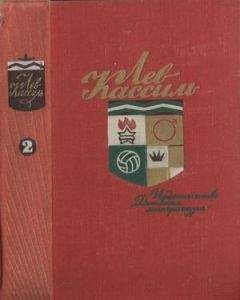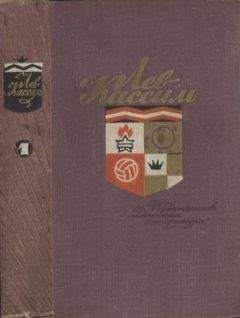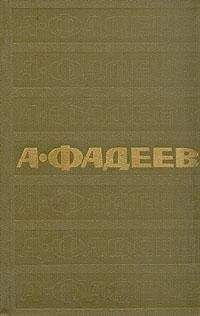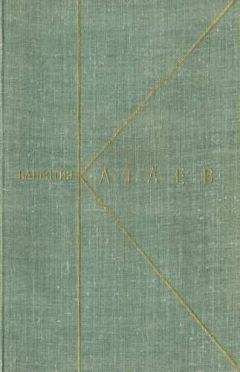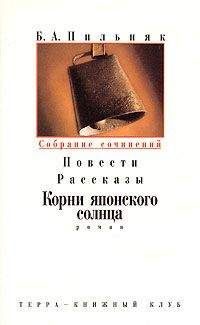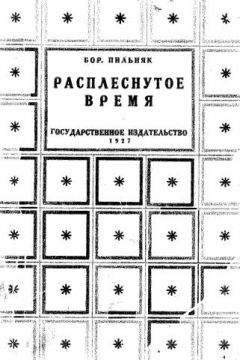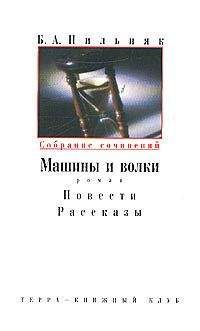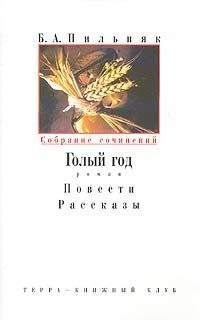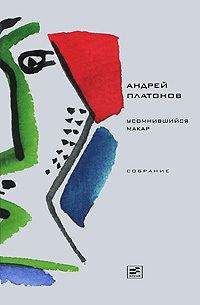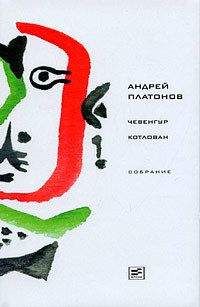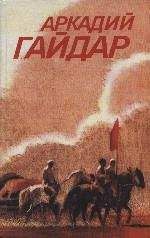Борис Пильняк - Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар"
Описание и краткое содержание "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар" читать бесплатно онлайн.
Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) – известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все восстановленные от купюр и искажений произведения автора.
В шестой том Собрания сочинений вошли романы «Созревание плодов», «Соляной амбар».
Лес стоял древностью. Костер бросал в небо искры, дымил хвоей, разгонял комаров, спутывал дым с туманом, уходил во мрак, в берендеевы закоулки сосен и елей, к волкам и лосям, попрятавшимся в этих лесах. Друг Александр Иванович Зубков, председатель, критик и чуть-чуть иронический человек, по прозванию Борона, а также Литвинов, сидел на сваленной ели, покуривая махорку, посмеивался. Он запел как можно громче, чтобы его услыхали:
Среди лесов дремучих
Разбойнички идут,
В своих руках могучих
Товарища несут!
Хор подхватил:
В своих руках могучих
Товарища несут!..
Носилки не простые
Из ружьев сложены,
И поперек стальные
Мечи положены!..
«Разбойнички» выпили еще по чаре, обнеся друг друга песней и водкой, степенно и торжественно. Перебив песнь, художники ходили за хворостом, костер бросал пламя и искры до вершин, трещал, пахнул горящей хвоей. Пламя костра всегда таинственно. Художники стояли у костра. В костре сгорели мечи, разбойники и рыцари сотен сказок, написанных этими художниками. В июне заря с зарею сходятся. Наступила полночь. В полночь пел Дмитрий Николаевич Буторин, пел один, со слезами на глазах, под безмолвное внимание товарищей:
На заре туманной юности
Всей душой любил я девицу.
Был в глазах у ней небесный цвет,
На лице горел любви огонь.
Что пред ней ты, утро майское.
Ты, дуброва-мать зеленая!..
Степь, трава шелковая,
Заря, вечер, ночь-волшебница, –
Хороши вы, когда нет ее,
Когда с вами делишь грусть-тоску.
А при ней – вас хоть бы не было.
С ней зима – весна, ночь – ясный день.
Не забыть мне, как последний раз
Я сказал ей, – прости, милая…
Было ясно, что Дмитрий Николаевич вкладывал в эту песнь все свое сердце, а быть может, и судьбу, – он был холост и есенински-лиричен. Его слушали серьезно, примолкнув, притихнув. Костер отгорел, тлели лишь пни. В десяти шагах от костра, за соснами и елями, проходила зеленая ночь. Туман подбирался холодком, пахнул лес сосновою смолою, прелью, грибами. Деревья стояли неподвижны и безмолвны. Перекликались в лесу ночные птицы, и ныли около березок комары.
Светало.
Все это: рыбная ловля, ночь у костра, хороводы, песни – все это сотни раз написано и Буториным, и Зиновьевым, и Зубковым, и Бакановым, и Маркичевым, и Вакуровым, и Котухиным, и Чекуриным, всеми, золотая вязь костров и восходов солнца, темень лесов, разбойников и рыцарей, золотой рыбки и золотого петушка, темень и золото тоски, точно травка зеленой, зари туманной юности, красной девицы, ай, люли, люли, красной девицы… Пьяных не было. Были счастливые люди.
Когда шли к Дягилеву и от Дягилева в Палех, Дмитрий Николаевич, он же Илья Федотович, сказал:
– А в стаде у нас, женщины говорят, бык коров сосет, – дела!
Возвращались в быт. Заговорили о женах.
– Опять «урядники» придираться будут.
Эпикуреец, с бородою больше, чем у Льва Толстого, истинный любитель природы, рассказчик поэмы о «красотах сельской жизни», которую он передавал звукоподражаниями, член коммунистической партии, седой юноша, художник, пишущий поэму социальной несправедливости и историю ссылки Герцена по «Былому и думам», друг Александр Васильевич Чуркин, по прозвищу Топор, сказал:
– Вот и хорошо в этих случаях для женщин радио, – нету дома мужей, есть кого послушать и «чему поучиться», – они тоже не отстают от времени.
У палехской околицы, прощаясь троекратным поцелуем дружбы, уговорились, чтобы жены, то есть «урядники», не знали, где художники были.
– Молчок! – сказал таинственно Александр Иванович.
– Ни мур-мур! – так же таинственно ответил Дмитрий Николаевич.
– Точка! – подтвердил Алексей Иванович.
Наутро художники упорно работали до четырех по своим мастерским, до обеда с учениками, со «студентами», а после обеда, хоронясь друг от друга, писали свои чудесности на лаке и под лаком, творили золота и краски указательными пальцами, причем разводили краски на курином желтке, полировали золото и серебро коровьим, а еще того лучше собачьим иль волчьим зубом, писали сквозь лупы кисточками более тонкими, чем комариный нос, – обдумывали свои композиции и клали их на лак.
В Палехе жил изумленный народ, художники, мастера, изумленные всем, что происходит в мире и с ними. Изумленными и праздничными ходили деды, которые по старости лет не принимали участия в общественной жизни, лишь критиковали, но, как восьмидесятидвухлетний отец Зиновьева, могли выпить рюмку водки и другую, покачать седою головой, поухмыляться, молвить: «Ишь ты, дела благодать!..» – Изумленными ходило старшее поколение мастеров: бывшие иконописцы, солдаты мировой войны, красноармейцы, спугнутые с векового своего промысла и сейчас – художники. Изумленными ходило второе поколение художников, Баженов, Каурцев, Турин, Солонин, Солобанов, Баранов, которые в двадцать втором году затруднялись решить, что лучше – искусство или валянье валенок. Не изумлена только молодежь.
На самом деле лошади в этом селе похожи на голиковских коней. На самом деле колхозники в этом селе становятся художниками, а некоторые художники, особенно их жены, мечтают о колхозе. На самом деле женщины здесь и в праздник, и в будни ходят с брошками, написанными их мужьями и братьями, причем на брошках изображены олени и лани, песни и сказки. Самое общеупотребительное слово здесь – искусство. Дети с трехлетнего возраста играют здесь в искусство, – родившиеся уже с пальцами художников, от рождения умеющие держать кисточку.
Сто лет тому назад и тридцать лет тому назад одни из палешан приходили в искусство, другие уходили из него – в овчинники, в сапожники, в портные. Хлебопашество не прокармливало. Отец Аристарха Дыдыкина, художника, необыкновенно сочетавшего в своих лаках Врубеля, средневековых персов и Микеланджело, был хлебопашцем и голодал; Аристарх Дыдыкин, с шести лет начав учебу, полуграмотный человек, двадцать лет работал иконописцем, до революции, до артели; дети Дыдыкина, – трое сыновей – учитель, землемер, командир роты; Чикурин, малограмотный человек, сын иконника, грамоте обучавшийся у николаевского солдата, – его сыновья – учитель, комиссар полка, инженер-технолог, врач. Буторин, малограмотный человек, холостяк и солист зари туманной юности, – его две племянницы – учительницы в Палехе, живут вместе с ним и почтительно называют его дядюшкой.
Так у всех художников. Так во всем селе.
Патриарх Салапин, старейший житель Палеха, старый до древности, говорил Сергею Ивановичу:
– Спрашиваете вы, почему мы раньше иконы писали? – ввиду нашей доходности…
Салапин знал, что иконописное мастерство у Палеха существовало и в семнадцатом веке, и раньше, и больше ничего не знал об этом. Он лучше знал, что Палех принадлежал помещикам Бутурлину и Грязеву, помещики держали палешан на оброке, в иконописные дела их не мешались. Бурмистрами у Бутурлина был род Сафоновых, феодальных владельцев Палеха, иконо-фабрикантов, обстроившихся в Палехе каменными домами и фабричными мастерскими-казармами палехской иконописной мануфактуры. Салапин не знал архивных записей. Господа и графы Бутурлины жили в Москве. В Палехе жили старосты и бурмистры – Сафоновы, Ноговицыны, Вакуровы. Господа Бутурлины писали бурмистрам в деревню «указы»:
«…старосте нашему такому-то. По получении сего указа смотреть бы вам над крестьяны нашими накрепко и содержать в страхе… ежели меж крестьяны нашими какие случатся ссоры, разыскивать и виновным чинить наказания – бить батоги, не описываясь к нам, и не допускай к нам напрасной докуки»…
Бурмистры пороли, арестовывали, сажали на цепь, штрафовали отбором имущества, сдавали в солдаты.
«…Жители оного села упражняются более в иконном греческом письме, а написанные иконы в нарочитом множестве отправляют для продажи в разные города… В оном селе, кроме еженедельных торгов по средам, бывает годовая ярмарка сентября четырнадцатого дня…»
Палешане платили подати бурмистрам натуральной повинностью, подушными и поземельными сборами, сборы с девок по достижении ими совершеннолетия и со вдов, за покупку на ярмарках лошадей. Бурмистр Сафонов по «реестру оброку за первую геньварскую половину 1847 года» заплатил 55 руб. 50 коп., да «с него же за дочь оброку принято 2 руб. 10 коп.». Революция 1917 года отобрала у Сафоновых шесть миллионов рублей. Этого Салапин не знал. Салапин помнил, как лет за пять до реформы Александра Второго господа Бутурлины поссорились с господами Грязевыми, бывшие до ссоры в дружбе, и, поссорившись, межевали немежеванные палехские свои владения упрощенными способами: солнечная сторона отходила Бутурлину, северная – Грязевым; крестьяне, расписанные между Бутурлиным и Грязевым, жили и направо, и налево; во един дух было проведено межевание и во един дух все бутурлинские были вселены в избы направо, а грязевские – налево; иные крестьяне, выселенные из лачуг, оказались в пятистенках, иные из пятистенок оказались в лачугах. Салапин знал, – Салапин по-своему определял слово – «иностранец»; по его понятиям «иностранец» – это каждый, кто не родился и не живет в Палехе, – Салапин помнил, как приезжал в Палех в семидесятых годах «иностранец» генерал Филимонов набирать мастеров помимо Сафонова для реставрации Грановитой палаты, поручил этот набор мастеру Белоусову, и Белоусов с тех пор пошел в гору, став конкурентом Сафонова.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар"
Книги похожие на "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Пильняк - Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар"
Отзывы читателей о книге "Том 6. Созревание плодов. Соляной амбар", комментарии и мнения людей о произведении.