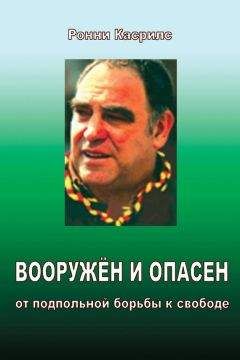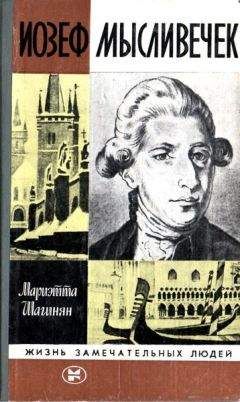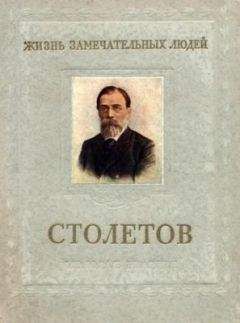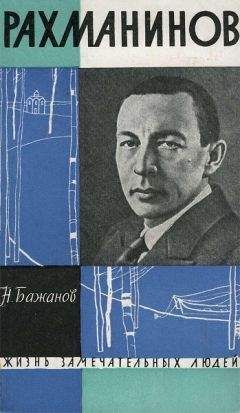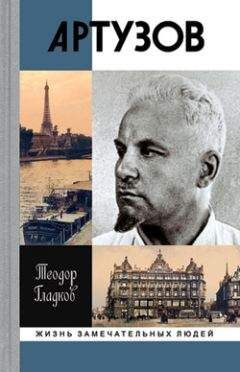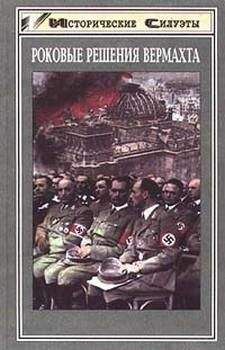О. Добровольский - Саврасов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Саврасов"
Описание и краткое содержание "Саврасов" читать бесплатно онлайн.
Эта книга посвящена выдающемуся русскому пейзажисту Алексею Кондратьевичу Саврасову, художнику-новатору, основоположнику русского лирического пейзажа, педагогу, воспитавшему плеяду талантливых учеников, среди которых И. Левитан и К. Коровин. Книга рассчитана на массового читателя.
Кунцевские виды были приобретены неизвестными собирателями, исчезли в частных коллекциях. Саврасов их больше не увидел. Не увидели их и мы в нашем веке. Утрачены ли они навсегда, безвозвратно, или сохранились, существуют по сей день, затерявшись где-то, в какой-нибудь далекой чужой стране? И не скользит ли равнодушный взгляд по этим небольшим пейзажам, которые так много значат и для сердца русского, и для русского искусства!
После Кунцева Саврасов будет работать в окрестностях Архангельского. Места там не менее живописные. Сам дворец князя Юсупова, великолепный, геометрически строгий парк не вызвали у него особого интереса. Его всегда влекла природа, к которой не прикоснулась рука человека. И снова он станет писать привольные берега славной русской реки, как бы стараясь перенести на полотно лучезарность, яркость красок подмосковного лета.
В 1859 году Саврасов напишет «Пейзаж с рекой и рыбаком». Он изобразит тихие берега Москвы-реки где-то неподалеку от села Архангельского. Раннее летнее утро. Наверно, день будет жарким, но сейчас еще ощущается прохлада, утренняя свежесть… На переднем плане береговая полоса сильно затемнена. Но за ней — светлая, в лучах солнца, желтизна речного песка. Слева довольно круто поднимается берег, поросший деревьями. В реке, которая широко и плавно изгибается, в ее спокойной, словно остановившейся воде отразились темно-зеленые деревья на краю обрыва, синева высокого неба. Справа — слегка всхолмленный противоположный берег, необъятные дали. В небе, за лесистым берегом, могучей грядой застыли облака. Картина пронизана светом, насыщена воздухом, и этого воздуха так много и он так ощутим, что хочется глубоко вдыхать его чистые освежающие струи…
В январе 1857 году умер Карл Иванович Рабус. Не стало любимого учителя, старшего друга Саврасова. Осиротел дом на Садовой, в приходе Николы в Грачах, где нередко бывал Алексей, где приветливо встречал гостей веселый и добродушный хозяин, большой эрудит, живший среди книг, эстампов, всевозможных научных приборов, микроскопов и телескопов вместе с милой и заботливой женой, которую он когда-то привез в Москву из Малороссии.
Рабуса любили. Многим он оказал поддержку, помог встать на ноги. Его знала вся Москва. В евангелической лютеранской церкви Петра и Павла, где происходило отпевание, собралась большая толпа. Саврасов стоял вместе с учениками и преподавателями училища. Карл Иванович утопал в цветах, увенчанный лавровым венком. Гроб несли до самого кладбища.
Преподаватель перспективной и ландшафтной живописи умер в середине учебного года. Его класс остался без руководителя.
Поэтому сразу же возник вопрос — кем заменить академика Рабуса? И вдруг Алексея Саврасова вызывают в Совет Московского художественного общества и предлагают ему занять освободившуюся вакансию. Это явитесь для него полной неожиданностью. Об этом он даже не думал и не мечтал. Мог ли он сравнить себя с высокообразованным, мудрым, знающим так много Карлом Ивановичем? Однако члены Совета рассудили иначе. Саврасов достоин занять место преподавателя. Это озаренный, самобытный художник, академик. Вскоре Алексей Кондратьевич, все еще никак не свыкнувшийся с этой поразительной для себя новостью, вошел в пейзажный класс как педагог.
Он приступил к занятиям, хотя еще не был утвержден в должности. Началась многоступенчатая ведомственная переписка, долгая бюрократическая волокита. Лишь через полгода, в июле, поступило отношение из Московской казенной палаты, где говорилось, что высочайшим приказом академик Саврасов определен учителем в училище живописи и ваяния с производством в титулярные советники…
Саврасов ежедневно являлся в свой класс — хорошо, со вкусом одетый, в темном сюртуке, спокойный, всегда доброжелательно настроенный. Он придерживался взглядов своего незабвенного наставника Рабуса, чей девиз был: «Природа — лучший учитель». Старался, чтобы ученики как можно чаще выезжали в окрестности Москвы для работы с натуры. В одном из ежегодных отчетов он так описывает занятия своих воспитанников: «Ученики Назаровский и Петров получили звания неклассных художников за виды, написанные с натуры в окрестностях Москвы. Ученик Соколов по приглашению почетного члена Московского Училища И. Д. Лорис-Меликова в его имении занимался изучением рисунка и живописи с натуры. Борецкий и Журин в продолжении лета делали этюды в с. Кунцеве. Медведев сделал несколько этюдов в с. Коломенском и Лефортовском саду. Соколов, Борецкий, Журин и Медведев в зимнее время писала картины со своих этюдов, также и копировали. Толкачев, Ельшевский, Любимов, Гашевский, Кранах, Африканов, Боригер и Боголюбов копировали красками и карандашом с оригиналов Училища».
Саврасов сам нередко отправлялся с учениками на этюды, а уже в классе изучали все то, что полагалось для знания ландшафтной живописи…
Инспектором училища был тогда Сергей Константинович Зарянко, напутствовавший учеников такой речью:
— Я люблю в ученике труд, терпение, полное послушание и скажу откровенно, что ненавижу праздность, легкомыслие, туманные мечты в искусстве вообще, а в живописи в особенности. Надо, господа, пользоваться тем, что у нас есть, что находится перед нами, что доступно и возможно для понимания и осязания нашего, но не гоняться за призраками, которых мы никогда не поймем и не поймаем… А потому, повторяю вам, я люблю труд положительный, математическое знание дела и не признаю произведений — по впечатлению и творчества — по вдохновению, как выражаются некоторые жалкие художники…
Маленький, тщедушный, с белесыми глазами на изнеможденном, тронутом оспой лице, с толстыми губами, он горячился, раздувая при этом ноздри. Но говорил убежденно, твердо веруя в свои принципы:
— Господа! Искусство вообще есть не что иное, как подражательность, то есть стремление подражать природе, — наклонность, присущая только человеку, — стремление, так сказать, воспроизводить, воссоздавать проявления природы в различных видах, как-то: в слове, в звуке и в видимых образах… Живопись есть искусство, изображающее только видимое в видимых формах! Живопись, например, не может изобразить разум, душу, дух человека: она может только сделать копию с человека и со всего видимого. Но зато если эта копия будет передана буквально верно, то в ней, помимо сходства, будет заключен тот же дух, та же жизнь, та же душа, которая содержится и в самом оригинале… Художник — раб природы, как природа, в свою очередь, — раба сотворившего ее. Художник должен, постоянно изучая природу, быть изобретателем всевозможных применений, до крайности упрощенных, посредством которых он мог бы приблизиться настолько к природе, чтобы передавать видимое до осязаемости, до обмана. Повторяю вам, этого можно добиться не иначе, как только математическою точностью копирования…
Такова речь Зарянко в изложении (несколько утрированном) В. Г. Перова, характер нового инспектора в ней выражен достаточно ярко. Нужно только добавить, что и сам Зарянко был даровитым русским художником, замечательным портретистом, а будучи инспектором училища, неукоснительно следовал тем же демократическим принципам, что и его предшественники, повторяя: «Доступность нашего Училища для самых беспомощных сословий — есть такое прекрасное преимущество, которое оно должно сохранить навсегда».
Что же касается «математических» методов профессора, то они вызвали довольно активное сопротивление как у старого преподавательского состава, придерживавшегося романтических, возвышенных представлений об искусстве, так и у нового поколения художников-реалистов, среди которых были Пукирев, Перов, Саврасов. Какая буря поднялась в училище, когда Зарянко предложил ввести новый класс «живописи с простых предметов», иными словами — обычные натюрморты!
— Цель искусства и нашего училища, — возмущались «романтики», — изучать человека как венец творения и развить в ученике вкус к изящному… И вдруг этого ученика будут заставлять по три часа в день изучать формы табурета или какой-нибудь тарелки…
— Правда жизни — вот что главное, — говорили «реалисты». — Ученики должны рисовать не табуреты, а выезжать на натуру…
Споры разгорелись столь жаркие, что Совет Московского художественного общества предложил преподавателям представить свои докладные записки, на основе которых и будет принята единая программа обучения. Подал такую записку и молодой академик Саврасов, только что получивший свой пейзажный класс, но педагогические принципы его уже достаточно четки, он излагает их, «следуя собственным убеждениям и методе своих бывших наставников». И пожалуй, самое характерное, что в этой записке Саврасов почти не касается своих разногласий с Зарянко (а они были, поскольку впечатлений и вдохновение — основа его творчества), вопрос о том — рисовать или не рисовать тарелки — для него не столь важен, как другой — необходимость «личного образования» воспитанников училища. Дело в том, что в училище преподавались только специальные предметы, имевшие прямое отношение к живописи, ваянию и зодчеству, но Рабус и другие педагоги уже давно подчеркивали, что такого специального образования для художника недостаточно, для него необходимо еще и общее образование (Саврасов называет его еще точнее — «личным», имея в виду образование личности художника). Этот тезис своего учителя и развивает он в докладной записке:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Саврасов"
Книги похожие на "Саврасов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "О. Добровольский - Саврасов"
Отзывы читателей о книге "Саврасов", комментарии и мнения людей о произведении.