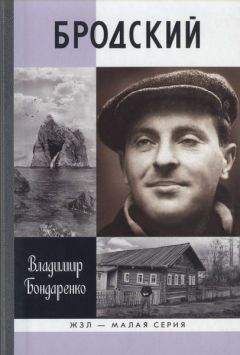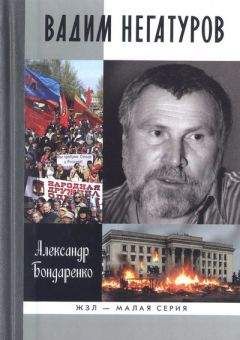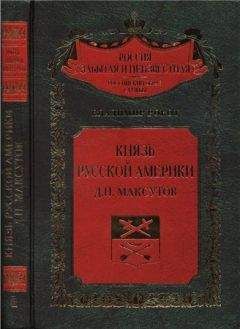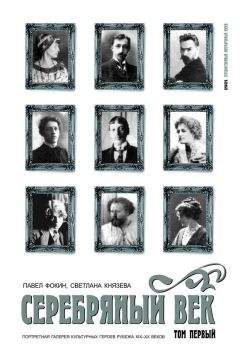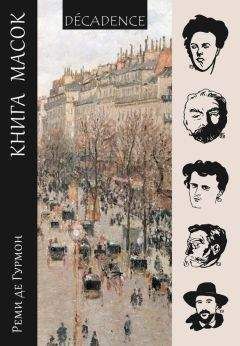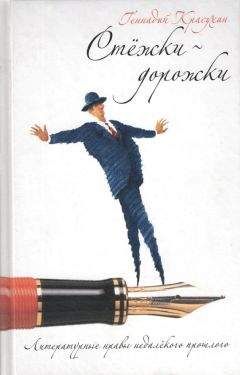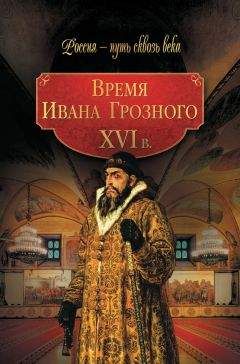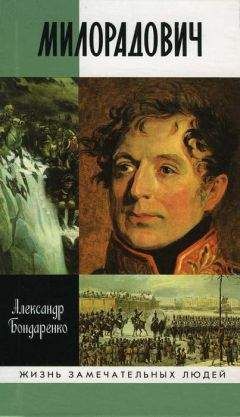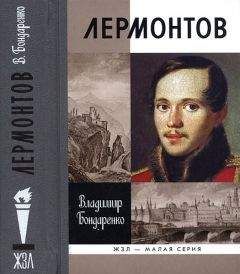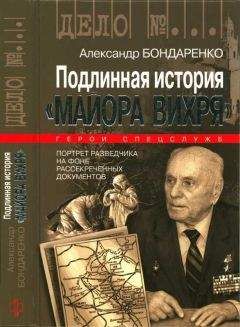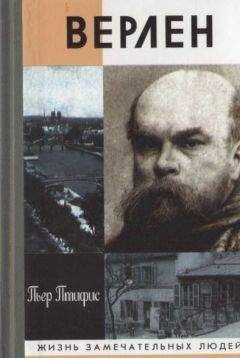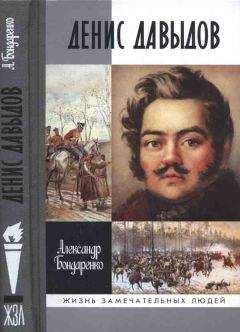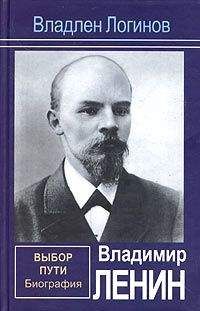www.litres.ru)
Вместо предисловия. Я еще обтесываю глыбу литературы
Беседа автора с Александром Прохановым
Александр Проханов. Дорогой Владимир Григорьевич, тебе стукнуло 60 лет. Ты всю свою жизнь прожил в литературе, даже такое ощущение, что для тебя реальная, общечеловеческая жизнь свелась во многом с чисто литературной жизнью, литературный поступок у тебя может быть важнее поступка, осуществленного за пределами культуры, за пределами литературы. Сама же литература за это время тоже прожила самостоятельную жизнь внутри общества, не во всем с ним соединяясь, совпадая, это тоже самостоятельная и моментная жизнь. Как на твоей личной памяти текла литература, какими она текла руслами, потоками? Когда в этой литературе возникали водопады, когда она останавливалась в омуте, как эти омуты опять взрывались бурями, как она растекалась на протоки и опять сливалась? Как бы ты оценил литературный поток и процесс, частью которого ты сам являлся и являешься по сей день на протяжении уже огромного сорокалетнего периода?
Владимир Бондаренко. Я соглашусь с тобой, с твоим тезисом о самостоятельной жизни литературы внутри общества. Если человек не то, чтобы болен литературой, но живет ею, просто любит книги, он никогда не будет одиноким и никогда не будет пессимистом. Потому что даже в самые трагические моменты, когда вдруг предают друзья, когда ты остаешься один, уходят близкие, и в пору впадать в депрессию, ты погружаешься в мир литературы, ты находишь там и друзей, и семью, и на самом деле можешь жить в мире книг полноценной самостоятельной жизнью. Уверен, что тот человек, который не обязательно живет в мире литературы, как литератор, хотя бы живет в мире книг, как читатель, он обогащенный и гармоничный человек. Это даже не вопрос культуры. Это вопрос личности. Без мира литературы нет и никогда не будет осуществленной крупной личности, не будет полноценного человека. И более того, я считаю, что лишь художественная литература (также как и философия, но не будем сейчас касаться философии), дает человеку возможность и умение абстрактно мыслить. Прискорбно, но нынешняя политическая элита, как левая, так и правая, кроме букваря в жизни ничего не читала, она лишена абстрактного мышления и потому лишена перспективы мышления, лишена длинного пути в своих замыслах, в планировании будущего России, лишена стратегических замыслов.
Последние активные читатели среди политической элиты остались в прошлом. Читали все новинки художественной литературы Ленин, Сталин, Черчилль, Де Голль и Мао Цзедун, великие политики самых разных направлений, самых разных стран. Среди читающих лидеров были и такие радикалы, как Муссолини. А люди, совсем не интересующиеся литературой, на мой взгляд, чем бы они ни занимались: наукой, политикой, бизнесом – это мелкие люди.
Конечно, сама литература в XX веке всегда опережала жизнь, и опережала её стратегически на пятилетия, на двадцатилетия.
Если бы наше маразматическое политбюро позднего брежневского периода умело читать книги, если бы они, к примеру, читали прозу сорокалетних, которую в 70-80-е годы писали Проханов и Маканин, Киреев и Орлов, Ким и Личутин, Крупин и Битов с их амбивалентными, противоречивыми героями, с их «лишними людьми», с глубинным психологическим показом кризиса всего общества, блестяще продемонстрированном в прозе, опубликованной, кстати, в наше советское время (ничего диссиденты принципиально нового не добавили в литературу после возвращения в Россию), можно было бы предвидеть будущий перелом, будущую разруху державы и как-то ее удержать, остановить еще тогда в 70-е годы. То есть наша литература, проза сорокалетних опережала, по сути, анализ эпохи лет на 20 получается. Никакие политологи не способны давать такие долгосрочные прогнозы. То есть те «сорокалетние» (нынче уже семидесятилетние), с их прогнозами на психологическое развитие общества, на тотальный кризис общества, оказались правы.
Точно также и Октябрьская революция была с неизбежностью предсказана, предопределена великой прозой и поэзией начала века, задолго до того, как это случилось. Ленин был прав, когда писал о Льве Толстом, как вестнике и зеркале революции. Литература в свои ясные, яркие периоды опережает жизнь лет на пять, десять как минимум. Но бывают эпохи, когда в литературе и планка высоты, и градус напряжения резко падают, литература разбивается на осколки. Я-то ожидал, что перестроечный кризис продлится два-три года, а потом начнется резкий подъем. После Октябрьской революции тоже был определенный кризис в литературе, блестящие писатели дореволюционные не знали, что им делать, литературу определяли бездарные пролеткульты, РАППы, Безыменские, Жаровы и т. д., но спустя 10 лет уже появились и Андрей Платонов, и Михаил Шолохов, и Михаил Булгаков, и Евгений Замятин.
Я бы сказал, что трагедия русского XX века дала и великую трагедийную литературу XX века. Считаю, что по вершинам литература XX века ничуть не ниже классического девятнадцатого века. Литература сопряжена с жизнью, конечно, скажем, не было бы войны 1812-го года, не было бы «Войны и мира». Не было бы гражданской войны, не было бы великого «Тихого Дона». И можно так сказать: может быть, лучше обойдемся без войн, но и без великой литературы. Как говорил Александр Дугин о цене крови за любое величие, по отношению к великой литературе я могу повторить вслед за Дугиным, она тоже на великой крови создавалась, от «Войны и мира» до «Тихого Дона», от «Котлована» и «Чевенгура» до, скажем, «Мастера и Маргариты». Все великие произведения держатся на разломах, трагедиях, на стихийных вспышках народной воли и, естественно, что тихое застойное буржуазное сытое общество не способно дать великую литературу. Поэтому, на мой взгляд, сегодня на Западе есть немало тонких стилистов, но по-настоящему великой литературы там давно уже нет, и они сами это признают.
А. П. Может быть, я был не прав, говоря, что ты всю свою жизнь пребывал лишь в литературе и для тебя помимо литературы остальное мало что значило. Это, конечно, не так. Ты огромную часть своей судьбы, жизни связал с газетой «День», с газетой «Завтра», с политическими протестными авангардными газетами, с тем направлением в культуре, которое очень быстро возглавило народное сопротивление перестройке. С одной стороны, культура стала инструментом этой перестройки, с другой стороны, культура пыталась сунуть слегу в колеса перестройки, и эта слега ломалась постоянно. Я помню, как твои недоброжелатели кинули к порогу твоего дома мешок с костями, намекая, что ты будешь убит и растоптан. Помню, как тебя поджидали у подъезда и разбили тебе голову. Я помню в 1993 году после расстрела Дома советов мы бежали в леса к Володе Личутину, скрываясь от преследования, скрываясь от убийства и гонения. Я помню наше шествие, когда мы двигались по Москве вместе с политическими лидерами во главе стотысячных колонн. Поэтому, конечно, ты не являешься кабинетным литературоведом и критиком, ты страстный оратор, ты страстный певец, огненный проповедник. Как все-таки связана политика и литература? Она, конечно, связана. Но где ты нащупываешь эти связи? Каковы они? Прямые, косвенные? Кто у кого служанка? Чем обходится этот союз литературы и политики для литературы и для самой политики? Как ты смотришь на эту ситуацию в советские времена и нынешние?
В.Б. Я считаю, что любой настоящий русский писатель, если не великий, то талантливый, просто одаренный, вне политической жизни жить не может, состояться не может. Для меня, кстати, крушение постмодернизма нашего отечественного, такое быстрое, стремительное, связано с тем, что, может быть, эта забава для сытого ума годится для каких-то небольших буржуазных сытых и скучных стран, где ищут хоть каких-то развлечений, но в России с её трагедийностью и величественностью замыслов, глобальностью крушений, с неизбежностью любой постмодернист, любой концептуалист, обладающий талантом, придет и к политике, и к социальности. Вспомним, как Маяковский от эпатажных стихов типа: «Люблю смотреть, как умирают дети», пришел с неизбежностью к стихам о революции, о бунте, о советском паспорте, став великим державником. Не повторил ли Эдуард Лимонов путь Маяковского? Наши «форматные патриоты», меня, да и тебя тоже, обвиняют, что кроме нашего направления патриотического в литературе мы захватываем и другие плацдармы. Это наш литературный стихийный империализм сказывается. Стараемся забираться в какие-то там дебри и либеральные, и абстрактные, и авангардные, и концептуальные внутри отечественной и мировой литературы. Да потому что путь Маяковского от эпатажности и элитарности к народности и державности неизбежен для любого крупного таланта. Я вижу, что самые утонченные постмодернисты как, скажем, Анатолий Королев в последнем романе «Быть Босхом», становятся социальными писателями. Пробуют выбраться на этот путь даже Пелевин и Сорокин. Может быть, ради читателя, ради спроса на рынке, может быть, это не их внутренний зов, я не могу за них сказать, но они становятся социальными художниками.