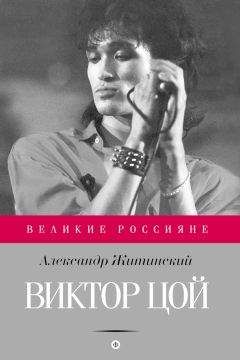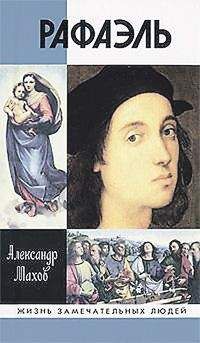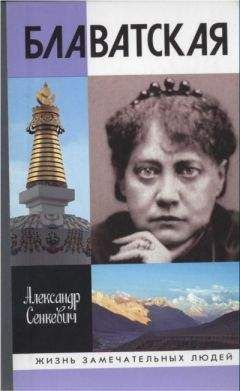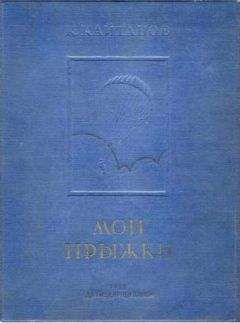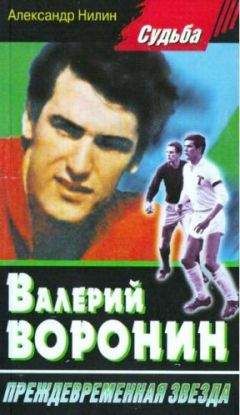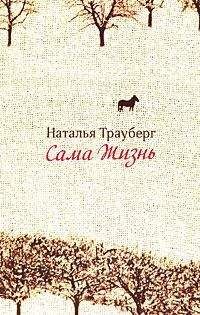Александр Нилин - Станция Переделкино: поверх заборов

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Станция Переделкино: поверх заборов"
Описание и краткое содержание "Станция Переделкино: поверх заборов" читать бесплатно онлайн.
Александр Нилин — прозаик и мемуарист, автор книг о легендах большого спорта. “Станция Переделкино: поверх заборов” — необычные воспоминания о жизни писателей и поэтов, разведённых личной судьбой и степенью известности, но объединённых “единством места и времени” — дачным поселком литераторов, где автор живёт со дня своего рождения. С интонацией одновременно иронической и сочувствующей А. Нилин рассказывает о своих соседях по “писательскому городку”, среди которых Борис Пастернак, Александр Фадеев и Ангелина Степанова, Валентина Серова и Константин Симонов, Чуковские, Катаевы, семья автора “Брестской крепости” Сергея Смирнова, Юрий Олеша…
Полагаясь на эксклюзив собственной памяти, в “романе частной жизни” автор соединяет первые впечатления ребенка с наблюдениями и размышлениями последующих лет.
Года три назад ехал я (вернее, мчался, не скажешь же про “Сапсан”, что он едет) скоростным рейсом в Питер.
Прямо под потолком вагона был укреплен телевизор с отключенным звуком.
Транслировали “Живых и мертвых”, двухсерийный фильм по роману Константина Симонова, — и я почти половину дороги смотрел картину в немом варианте (никогда целиком ее не видел, что-то каждый раз мешало либо досмотреть до конца, либо начать смотреть с начала).
Я хорошо помнил роман — отсутствие звука мне не мешало.
Правда, от развития сюжета меня довольно долго отвлекали воспоминания. Почти с каждым из исполнителей ролей, кроме разве Анатолия Папанова (он играл главного генерала), я был знаком или дружен — от знаменитых Высоцкого и Ефремова до моего однокурсника Володи Шибанкова — забытого, или, правильнее сказать, незаслуженно не ставшего известным, артиста.
Не считая Олега Табакова затруднился бы назвать, кто еще из снявшихся в этом фильме жив сегодня. А ведь едва ли не все снимались в начале жизни: тот же Высоцкий, перекрашенный в соломенного блондина, не дольше нескольких секунд играет солдатика в кузове грузовика и больше на экране не появляется.
Вспомнил я и о том, что и меня самого не настойчиво, но звали на роль третьего или четвертого плана в эту картину.
Позвонили из группы “Живых и мертвых” с приглашением приехать на пробу — предполагали на роль фотографа Мишки Вайнштейна (Симонову прототипом для Вайнштейна послужил коллега Виктора Тёмина по работе в центральных газетах по фамилии, кажется, Бронштейн или Бернштейн, известный в своем кругу человек). Я спросил: “А почему на эту роль?” “У нас снимаются ваши приятели, они говорят, что вы очень смешной”.
Я уезжал на практику в Серпухов — и вылетать ради эпизодически-комической роли из университета (не так легко было перевестись мне на факультет журналистики) не входило в мои планы. Рискнул бы, может быть, из-за роли сколько-нибудь главной (я себя все еще видел героем), а так с легким сердцем отказался — и нисколько не сожалел, увидев в роли Вайнштейна известного артиста Зяму Высоковского.
В “Сапсане” вдруг малодушно подумал, что вот и еще один случай остаться в истории я пропустил. Но посмотрел, как проигрывает мой друг Боря Ардов, изображавший работника райкома партии, в эпизоде с Кириллом Лавровым, и решил, что не снялся в “Живых и мертвых” к лучшему: Борис хоть красивым остается на экране, а я как бы выглядел в комической роли?
Все же фильм втянул меня в себя, когда миновали мы Бологое, — и, видимо, оттого, что смотрел я вариант без единого слова, я понял, как мне кажется, свои не сформулированные прежде претензии к тексту — к тексту, а не к чему другому.
Не касаясь разных масштабов содержания некогда запрещенного романа Василия Гроссмана, с которым десять лет жили мы в квартирах напротив (я все же стараюсь в своем сюжете держаться линии соседства), и премированного, как обычно, романа Симонова, сразу хочется сказать, что первый роман написан большим писателем, а второй продиктован знаменитым автором.
Я знаю, что Константин Михайлович не первый из отечественных писателей, кто прибегал в работе над прозой к помощи стенографистки. И все же равнодушие к слову у человека, писавшего стихи прежде, чем обратиться к прозе, несколько удивляет.
И я заподозрил, что и с прозой Симонова происходит то же, что заметил когда-то Агапов в случае с политической поэзией: массовый читатель следит за сюжетом и безразличен к порядку слов и к самим словам (в их заемности или незаемности). И зачем тогда, по угаданной Агаповым логике, знать большее количество слов, чем привык читатель?
5Впервые после детства в Переделкине я увидел Константина Михайловича в новом (как острили, сносном — и через какое-то время действительно снесенном) здании театра “Современник” на Маяковке.
Театр Ефремова оставался молодым, многое ждало еще “Современник” впереди, — но теперь уже был самым модным (оставаясь протестным), окруженным самыми знаменитыми и прогрессивными людьми своего времени.
Мне показалось, что на протяжении жизни Константин Михайлович Симонов как-то корректировал свою внешность — и бывал в разные времена разным: то несколько поправлялся, то снова худел, носил когда-то длинные, зачесанные волной волосы, потом стригся короче, так красиво седел, что седина не казалась преждевременной. Я привык воспринимать Симонова всегда солидным — солидным с молодости (я-то был ребенком, когда его видел, но фотографии тех лет подтверждают мое детское впечатление) — и удивился, когда прочел в книге Игоря Кваши, что называет он начавшего сотрудничать с их театром Симонова Костей (он, мол, посоветовал Евстигнееву занять денег на кооперативную квартиру у Кости Симонова, и Костя, конечно, одолжил Жене денег, а когда тот отдавал долг, забыл, что одалживал).
Но Симонову, в чьей жизни уже столько всякого разного случалось, на момент появления в “Современнике” было всего-то сорок шесть лет — и ему наверняка нравилось, что придирчивая к прошлому молодежь видит в нем не советского мэтра, а своего современника.
И на самом деле никакие антисталинские настроения не мешали артистам молодого театра помнить, как играли они в самодеятельности или “Русский вопрос”, или что-нибудь еще из широко шедших после войны пьес Симонова и читали при поступлении в театральные школы “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины”, допустим.
Они помнили, что Симонов — фронтовик, они не могли при всей новизне своих нынешних взглядов (приверженности к итальянскому неореализму) перестать любить Серову в фильмах своего детства, они восхищались тем, что боготворимый ими Хемингуэй состоял с Константином Михайловичем в переписке.
А может быть, как в юности случается, им хотелось поскорее выглядеть взрослыми — и дружба с несомненно взрослым Симоновым льстила каждому из них.
И все же более всего взволновала “Современник” тема предложенной Симоновым пьесы. Она была вроде бы, как всегда у Симонова, про войну, но с перенесением действия в наши дни — точнее, действие пьесы “Четвертый” происходило в наши дни, но главным становилось рассекавшее (по идее автора, ставившее все с ног на голову) воспоминание о главном событии в прошлой жизни героя. В этом воспоминании к нему, оставшемуся в живых, приходили погибшие друзья, которым и был обязан продолжением жизни, прожитой затем, как сам понимает, недостойно. То есть, пожертвовав всем своим сегодняшним благосостоянием, он может завершить жизнь достойно, но завершить без какой-либо надежды снова жить припеваючи, продавшись, как полагается приличному журналисту, только один раз, а не два (помните вопрос Симонова: “А вас покупали?”).
Принять такое решение в одиночестве он не в состоянии.
Правильного совета от жены (Женщины, которую он не любил, но на которой женился, как обозначена она в списке действующих лиц) он и не ждет, не верит он ее советам. Он (в списке действующих лиц автор называет этого журналиста Он) идет к Женщине, которую любил, но на которой не женился, — и вот она (не принятая в советских пьесах мистика) сводит его с тремя мертвыми друзьями — теми, кто когда-то решился на побег из концлагеря, его (который “Он”) сохранив для будущего, коим он умно, но недостойно принесших себя в жертву героев, распорядился.
И теперь — в итоге мучительных размышлений — он просит их взять его четвертым.
В моем беглом пересказе это похоже на пародию. Почему четвертым, если сообщить миру о подлости (запущенном самолете с атомной бомбой), готовящейся правительством страны, где Он живет (а живет он, конечно, в Америке — и все действующие лица тоже американцы), журналист должен сам? Погибшие друзья-то тут при чем? Но подразумевалось, вероятно, что, пойди он четвертым тогда, не мучил бы его страх за свою шкуру и сегодня.
В пьесе можно найти и еще ряд несообразностей.
Но можно и понять, что, сочиняя одновременно с большим романом и пьесу, автор лихорадочно искал выход в исповедальный жанр, от которого за годы после “Жди меня” успел (или постарался) отвыкнуть.
В пьесе заметно и подражание западным, раз действуют в ней иностранцы, образцам — при желании кроме Артура Миллера можно вспомнить и переделкинского гостя Пристли. Но, вроде бы уже почувствовав своим главным автором естественного, ни на кого ни похожего питерца Александра Володина, актеры “Современника” и режиссер Ефремов ухватились за пьесу Симонова как за возможность вывести на сцену более привычного для театрального амплуа героя. Артисты есть артисты, каким бы прогрессивным ни был театр. А публика на то и дура, чтобы и в самом прогрессивном театре не пойти ей навстречу, что Симонов с его опытом советского драматурга и знанием публики предположил правильно.
Я бы не сказал, что в пьесе Симонова так уж убедительно выглядел Он.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Станция Переделкино: поверх заборов"
Книги похожие на "Станция Переделкино: поверх заборов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Нилин - Станция Переделкино: поверх заборов"
Отзывы читателей о книге "Станция Переделкино: поверх заборов", комментарии и мнения людей о произведении.