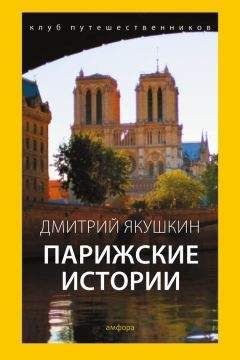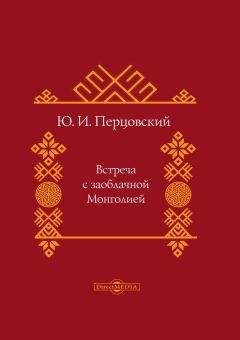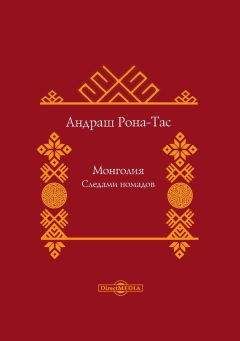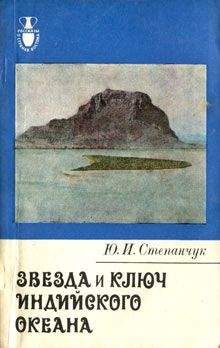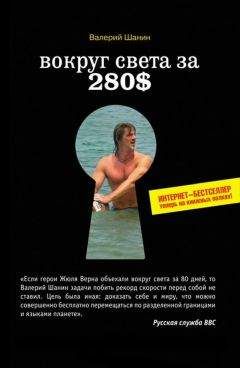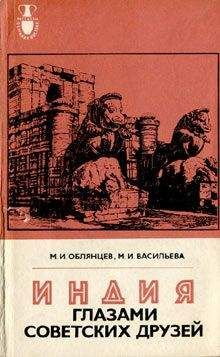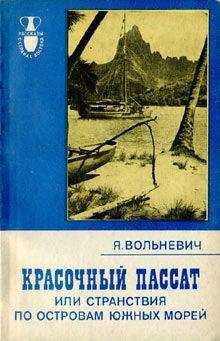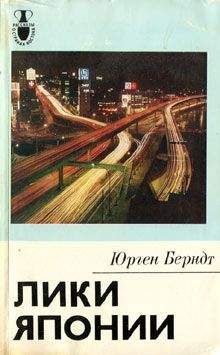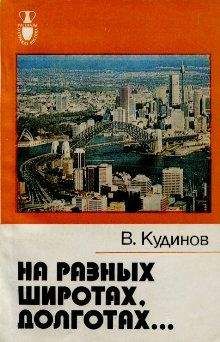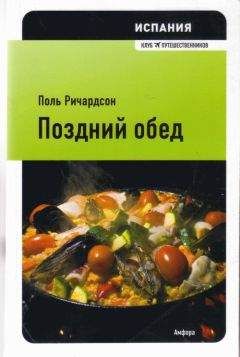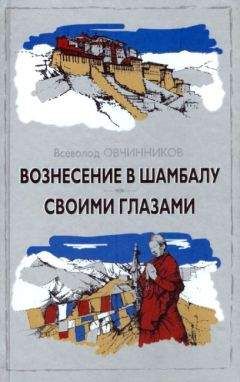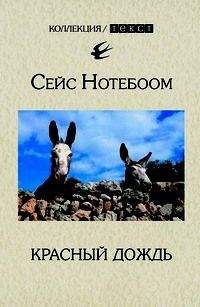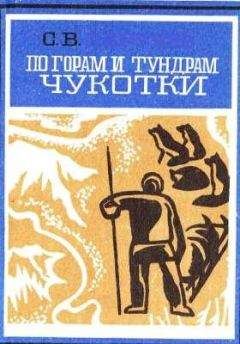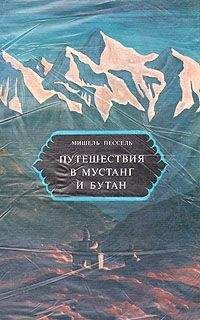Ннаталья Жуковская - Судьба кочевой культуры

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Судьба кочевой культуры"
Описание и краткое содержание "Судьба кочевой культуры" читать бесплатно онлайн.
Автор, проработавший 17 полевых сезонов в составе комплексной Советско-монгольской историко-культурной экспедиции, предлагает взглянуть на традиционную культуру Монголии глазами этнографа. Вместе с автором читатель побывает в монгольской юрте, оценит лучшие блюда монгольской кухни, примет участие в национальных праздниках Цагаан саре и Надоме, в научном диспуте в стенах буддийского монастыря, познакомится с народным пониманием счастья и правилами этикета.
С миром монгольских кочевников Европа познакомилась в ХIII веке и с тех пор не спускала с него пристального взора, стараясь понять, какой внутренний импульс придал монголам столь сокрушительную силу, перед которой полтора века трепетали королевские дворы Европы и Азии. Была ли в этой силе закономерность? Или это случайность, не стоящая внимания? И что такое вообще кочевой мир — дикие, неорганизованные, подобные стихии, орды варваров, или еще не до конца понятые великие цивилизации? Как этнограф скажу: понят мир чужой культуры не просто, но надо стремиться это сделать, надо постараться постичь его внутреннюю гармонию, пытаться увидеть в любом, самом, казалось бы, незначительном поступке, жесте, обряде стоящее за ними единство природы и культуры. Поняв других, мы сможем лучше понять самих себя.
В нас проснулся азарт. Мы сделали объезд подальше и, уже минуя все асфальтированные улицы, по каким-то ухабам и колдобинам выехали прямо к мосту. Вот это да!.. Море голов, машин, мотоциклов, велосипедов, на всех заборах и деревьях сидят люди… и полная тишина.
На нашу тарахтящую машину сразу зашикали, мы выключили мотор и влились в толпу. Пробравшись вперед, я застыла в этнографическом экстазе. Передо мной вдруг очутилось около сотни всадников в головных уборах, которые мне до сих пор доводилось видеть только в музеях и в альбоме монгольского художника У. Ядамсурэна, да и то в единичных экземплярах. Тут они украшали головы десятков людей. Допотопные кремневые ружья, старинные седла и сбруя, длинные, заменявшие когда-то рукавицы и уже отошедшие в прошлое обшлага национальных халатов дэли — все говорило о том, что здесь воспроизводится обстановка конца XIX — начала XX века. Кто-то толкнул меня в спину: я обернулась — на меня надвигалась знакомая по телевизионным кинопанорамам передвижная площадка с кинорежиссером, что-то громко объяснявшим в рупор. Ну конечно же, снимается кино. Именно поэтому здесь собрался весь город. Половина его жителей — массовка, остальные — зрители и болельщики. Поэтому-то в городе так пусто, улицы перегорожены, чтобы не мешать священнодействию, и все машины должны идти в обход.
Режиссер что-то объявил, и массовка рассыпалась: закончилась репетиция и всех распустили по домам. Завтра съемка. Часть всадников пересела с коней на мотоциклы и с треском стала разъезжаться в разные стороны. До чего забавно выглядит кочевник в костюме XIX века на мотоцикле, и сколь величествен он в седле! Это понимала не только я — мотоциклисты и всадники весело подзадоривали друг друга, не умолкал смех, где-то уже звучала протяжная песня, вдоль домов в традиционных торжественно-праздничных позах, подложив под себя левую ногу и подняв колено правой, сидели монголы, курили и неспешно беседовали — во всем чувствовалась обстановка большого народного гулянья и радостного возбуждения. Действительно, не каждый день тебя снимают в кино.
Проезжавший мимо всадник показался мне знакомым. Я окликнула его, и он тут же радостно приветствовал нас с Тангадом. Историк, этнограф и социолог в одном лице, а также детский писатель и куратор Центрального республиканского дворца бракосочетаний по проведению традиционной свадебной церемонии, X. Нямбуу присутствует здесь в качестве консультанта кинофильма «Хатанбатор» — биографической ленты о народном герое Монголии полководце Хатанбаторе Максаржаве. В Кобдо снимается эпизод взятия им в июле 1912 года Кобдоской крепости и разгрома маньчжурского гарнизона во главе с китайским амбанем. На другой день я увидела, что стены крепости, пребывавшие уже несколько десятков лет в весьма плачевном состоянии, выглядят значительно более крепкими и высокими, чем всегда. Позаботилось об этом искусство кино и кинобутафории. Я несколько раз прошлась по фанерным щитам, отделанным под сырцовый кирпич, сомневаясь, выдержат ли они натиск хотя бы одного всадника, однако трое из них на моих глазах промчались в крепость через бутафорские ворота, и я успокоилась — не подкачают. В конце концов мы прощаем кино его маленькие хитрости за ту радость, которую оно порой нам доставляет.
Наконец, мы на левом берегу реки Буянту. Юрты жителей города белеют в темноте. Их сотни: покрупнее, с овальным верхом, — казахские, пониже, более островерхие, — монгольские. Левый берег реки — своего рода дачный район города. Здесь, несмотря на поздний час, все еще шумно: играют дети, лают собаки, недалеко от нас доят коров, в реке кто-то полощет белье. Мы отъезжаем подальше к горам. Там песок, тишина, да и комаров поменьше. За весь день мы как-то толком ни разу не поели, и мечтавший угостить нас экзотическим блюдом классических кочевнических времен Тангад наконец готовит его. Это печень барана, запеченная в нутряном жире. Ее заворачивают в мокрую бумагу и засыпают золой прогоревшего аргала. Через пять минут все готово, а еще через минуту все съедено и даже пальцы начисто облизаны. В глазах у всех светится одно и то же: так вкусно и так мало.
А километрах в трех от нас огни ночного Кобдо. Завтра мы осмотрим местный краеведческий музей, один из крупнейших и лучших в Монголии, запасемся продовольствием, водой и снова в путь, а пока любуемся городом в мерцающих огоньках, издали похожим на опаловое ожерелье.
Один день из жизни этнографа
Люди, далекие от этнографии и экспедиционной жизни, часто спрашивают меня: ну что ты делаешь в своей Монголии? Археологи копают древние могильники и города, геологи ищут месторождения — это понятно. А ты? Ходишь по юртам? Беседуешь со стариками? О чем? Обо всем…
Итак, всего один день.
20 августа 1979 года, понедельник.
На центральную усадьбу сомона Жаргалант мы прибыли вчера вечером. Уже в сумерках отметили красоту здешних мест: спокойное величие реки Идэр, рощу двухсотлетних лиственниц с мощными корнями — причудливыми творениями природы, многоплановую панораму гор. Однако сумерки в Монголии коротки, и, не дожидаясь темноты, мы выбрали уютное место, поставили палатку и сварили традиционную лапшу с тушенкой. По уже сложившейся экспедиционной привычке посудачили, глядя на звездное небо, быть или не быть ночью дождю, и улеглись спать. К этому времени и в сомоне стихли все звуки. Рабочий день кочевника заканчивается с заходом солнца. У нас, этнографов, изучающих традиционную кочевную культуру, тоже. И лишь у собак еще продолжалась своя неугомонная жизнь.
Утро холодное, небо затянуто облаками, дождь. Вылезать из спального мешка, умываться в ледяном горном ручье, готовить завтрак — господи, до чего ж не хочется! Но надо: первый потенциальный информант уже сидит возле нашей машины и терпеливо ждет, когда мы проснемся. Это местный шофер, у которого какие-то неполадки в машине. Он не прочь получить от нас помощь, но еще более хочет знать, кто мы, откуда и зачем сюда прибыли. И это для него важнее и интереснее, потому что сомон Жаргалант, отгороженный высокими горами и труднодоступными перевалами, гостями особенно не избалован.
С шофера Бата и начался наш рабочий день. Пока разогревались остатки вчерашней лапши и готовился чай, мы узнали, кто из сомонного и партийного начальства сейчас на месте и к кому из местных старожилов следует обращаться с интересующими нас вопросами по традиционной духовной культуре. Ну что ж, начало положено. Завтракаем — и за дело. На этот раз в составе этнографического отряда Советско-монгольской историко-культурной экспедиции четыре человека: монгольский этнограф Д. Ням, член Союза художников МНР А. Даваацэрэн, шофер Костя Шишкин и я. Наш маршрут проходит по северу Архангайского и югу Хубсугульского аймаков МНР. Круг интересов у каждого члена отряда свой; меня интересует система символов в традиционной монгольской культуре, Няма — искусство дарханов, мастеров чеканки по серебру, Даваацэрэна — работы местных умельцев-резчиков по дереву. Ну а шофер Костя, помимо того что должен держать на ходу и в порядке машину, добровольно принял на себя заботу о нашем ежедневном питании. Места здесь рыбно-ягодно-грибные, и это значительно облегчает его задачу. Одним словом, у всех свои заботы.
В сомоне Жаргалант дело нашлось каждому. Сначала мы, как полагается, представились1' местному начальству, коротко рассказали о работе экспедиции, ее задачах, находках и планах, еще раз проверили имена интересующих нас информантов и, заручившись обещаниями помогать нам, разбрелись по юртам.
Первый, к кому мы нагрянули в «гости», — бывший механик местного молочного завода, ныне пенсионер Магсаржалам. Однако нас больше интересует другая сторона его личности — он считается лучшим из местных знатоков старины и немало гордится этим. Он, его жена и дочь раскладывали куски прессованного творога арула на всех солнечных участках своего двора: чтобы этим творогом кормиться зимой, он должен хорошо просохнуть летом. Наше появление прервало эту работу. Узнав, кто мы и зачем, Магсаржалам степенно пригласил нас в юрту. Жена также не спеша начала готовить чай. Раз пришли гости, свежий чай с молоком — первое и непременное угощение. В таких случаях часто беседа долго не клеится, трудно находить общий язык, хозяину не совсем ясно, что от него хотят, но сейчас этот барьер взят с ходу. Магсаржалам сразу уловил суть дела, и беседа плавно пошла с первого же вопроса и первого ответа на него. Семантические оппозиции любой древней культуры (правое — левое, мужское — женское, светлое — темное, жареное — вареное, живое — мертвое, добро — зло, клятва — проклятие и т. д.), их взаимосвязь и противостояние — казалось бы, что общего у них с современной монгольской культурой? Однако и в устройстве юрты, и в представлениях о пространстве и времени, и об обязанностях мужчины и женщины в семье и обществе, и в воспитании детей, и в свадебных, родильных, похоронных обрядах эти оппозиции, хотя и в несколько завуалированной форме, присутствуют до сего дня. Магсаржалам рассказывал о них живо, не опуская деталей, ибо именно они (он это вряд ли знает, но чувствует) порой и являются решающими в оценке места того или иного явления в общей системе культуры.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Судьба кочевой культуры"
Книги похожие на "Судьба кочевой культуры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ннаталья Жуковская - Судьба кочевой культуры"
Отзывы читателей о книге "Судьба кочевой культуры", комментарии и мнения людей о произведении.