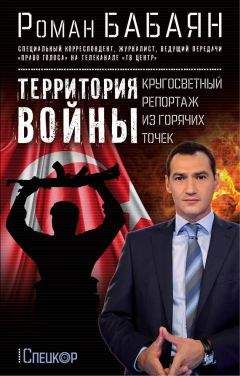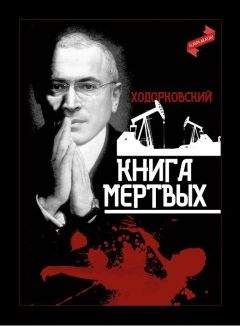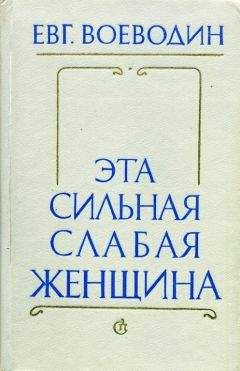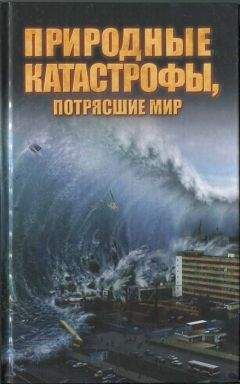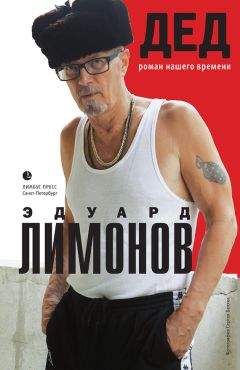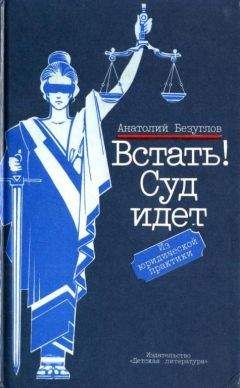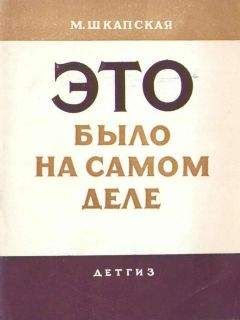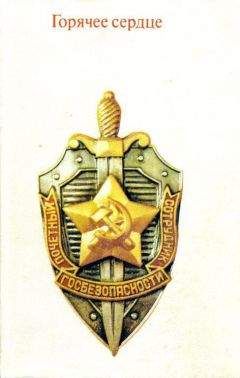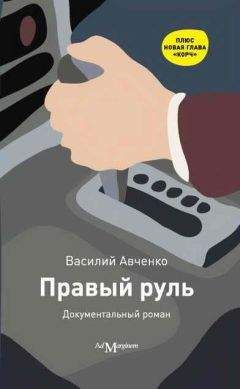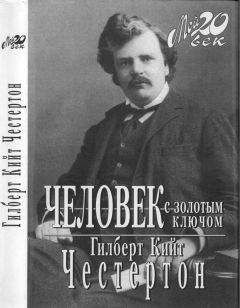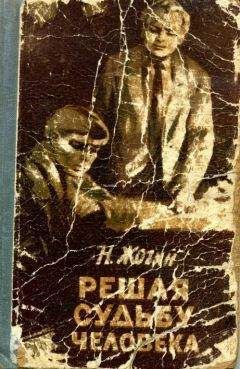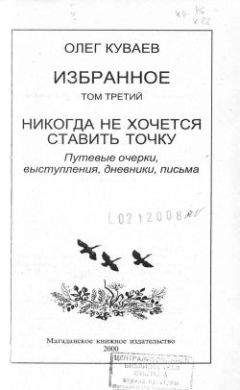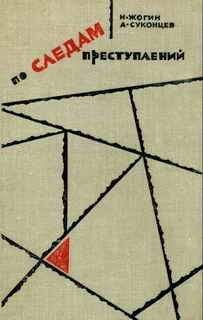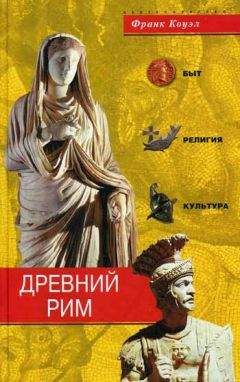Юрий Скоп - Избранное
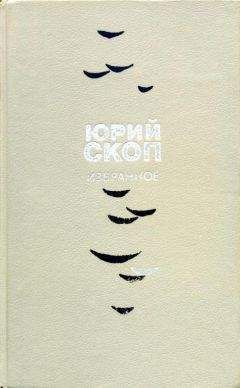
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Избранное"
Описание и краткое содержание "Избранное" читать бесплатно онлайн.
В книгу «Избранное» лауреата Государственной премии РСФСР Юрия Скопа включены лучшие повести писателя — «Имя… Отчество… Бич», «Волчья дробь. Гаденыш», «Роман со стрельбой» и «Со стороны». Книга раздумий «Открытки с тропы» представлена несколькими новеллами. Это размышления о человеческих судьбах, о сложностях творческой личности, собственной жизни и работе. Четыре новеллы этого раздела предваряют роман «Факты минувшего дня», поднимающий нравственные проблемы нашего общества.
В общем, выкручивался ужом. Ладно хоть класс уважал за другое и по-братски, коллективно, готовил за меня контрольные и так далее.
Приглянулось мне в справочнике было и название Института международных отношений. Это бы ничего, думалось мне, нарисоваться в Иркутск во фраке, с сигарой, на таком длинном, с откинутым верхом автомобиле… Но! — и в этом случае я вынужден был признаться перед самим собой, что полиглота из меня, факт, в пятнадцатой школе-десятилетке не смастерили. Из немецкого же, который мы проходили как-то странно, запомнилось лишь — их бин хойте орднер и Анна унд Марта баден. Все. Так что с международными занятиями во фраке надо было завязывать на корню.
И вдруг я так и услышал со страницы справочника какое-то по-журавлиному звонкое, хрусткое слово — журналистика. Оно буквально пронзило сознание своей необычностью. Я, не поверите, заболел им и… в 1958 году получил диплом журналиста.
Пять университетских лет. Пять перекладин на подъеме к профессии. Из сегодня, конечно же, легко обнаруживать всяческие несовершенства в изначально заложенной в меня профессиональной начинке. Вуз в основном набивал теорией, какими-то мудреными ученостями по поводу, скажем, элементарной газетной информации. А вот научить будущего газетчика умению мыслить при взятии того же элементарного интервью, то есть мастерству задавать вопросы, — ноу из нот, как говорят в Великобритании.
Не понимаю сейчас, как можно без этого? Ведь это азы, постановка голоса, пальцев в переносе на другие профессии. Журналистика начиналась и начинается с вопросов кому-то. А как аукнется, так и откликнется. На собственной шкуре испытал чудовищные затруднения, связанные с неумением получить ответ.
Удивительная вещь: любой из нас, только-только научившись говорить, без конца теребит окружающих ненасытной своей любознательностью. Ребенок прекрасно интервьюирует мир, познавая себя в нем. Но вот приходит пора школы, студенчества, работы, и вчерашний неустанный вопрошатель забывает об этом. Забывает потому, что его постоянно отучают от этого. Да, да… отучают. Кому из нас не вбивалось под разными соусами в сознание: не умничай… не откровенничай… не возникай… не высовывайся… помалкивай?
Тьфу!.. Какая же все-таки это мерзость! Ампутация желания спрашивать — простите, своеобразное духовное кастрирование. А лесенка к нему, оглянитесь, пожалуйста, растет вроде бы из заботы об нас. Из добра. Из охранительных, так сказать, соображений. Валяй по ней, и все будет в порядке: наивная искренность перерастет в пока еще светлую застенчивость, застенчивость — в мучительную стыдливость, стыдливость — в дрессированную стеснительность, стеснительность — в тактичную скромность, скромность — в спокойную забывчивость, забывчивость — в мутное равнодушие, а от него до циничного отчуждения — рукой подать…
И сколько же я повстречал на своем пути мериноподобных, профессиональных нелюбознателей… Самое страшное, когда им доверяются руководящие посты. Моя бы воля — всех их повыковырнул оттуда. Жить хочется, когда можно открыто, без какой-либо боязни кого-то или чего-то, спросить о чем угодно!
Понимаете?..
Газета… В Свердловске, например, я еще с первого университетского курса сотрудничал в «молодежке» «На смену!» — и в ней мне повезло на недолгие товарищеские отношения с человеком, которого я никогда не забуду… Это главный редактор, поэт Михаил Михайлович Пилипенко. Помните: «Ой, рябина кудрявая, белые цветы…»? Это его стихи, из его «Уральской рябинушки», поются до сих пор, ставшие на Урале поистине народными.
Михаил Михайлович был очень честный и чистый человек. Он прошел испытание войной, а вот выбила его из жизни — нечестность, грязь, зависть. Выбила на песенном взлете, когда свердловская «молодежка» стала под его остроумным руководством одной из интереснейших газет в стране… Я благодарен ему не только за внимательное, бережно-терпеливое введение в мир набираемых типографскими машинами слов и понятий. Не только… Один раз, но в момент, решающий многое в моей дальнейшей судьбе, Михаил Михайлович сотворил такое, отчего у меня и сейчас зажимает горло…
Буду предельно краток: на четвертом курсе, ей-богу, не желая того, я… оступился. И — крепенько. Во всяком случае, с точки зрения тех, кто по меркам того времени оценивал совершенное мной. Встал, и причем ребром, вопрос о пребывании не только в университете, но и в комсомоле. С учебой пришлось погодить, и я почти год проработал в Нижнем Тагиле на строительстве прокатного стана «605», где, так сказать, прочищал мозги в рабочей среде. А потом и наступила та самая минута на заседании бюро Свердловского обкома ВЛКСМ, когда тогдашний первый секретарь его — Александр Куклинов, — цепко-цепко взглянув на меня, сказал:
— …кто его знает… Может, он и хороший парень. И-и… вполне осознал все. Тем не менее… это мне очень интересно, а найдется, к примеру, кто-нибудь вот здесь, на этом бюро… кто бы смог за него и — все равно авансом — положить на вот этот порог голову, — он показал на закрытую дверь, — и сказать: «Руби, Саша! А?..»
До сих пор слышу в себе эту минуту. И тишину ее… Горло давило все туже и туже, как вдруг поднялся Михаил Михайлович Пилипенко, решительно, в несколько шагов пересек кабинет, распахнул дверь, мгновенно лег на пол лицом вверх и очень серьезно сказал:
— Руби, Саша! Руби!
Ну, а после я вернулся в родной Иркутск и почти три года работал в областной партийной газете «Восточно-Сибирская правда».
Славная это была пора. Добрая. Азартная… От души кланяюсь из сегодня моим строгим наставникам: Андрею Григорьевичу Ступко, Елене Ивановне Яковлевой, Владимиру Николаевичу Козловскому, сибирским журналистам Борису Новгородову, Павлу Новокшонову, Виктору Соколову… Тогда, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, в Иркутске неожиданно сконцентрировалась весьма даже приметная своими газетно-литературными начинаниями среда: Александр Вампилов, Валентин Распутин, Вячеслав Шугаев, Евгений Суворов, Геннадий Машкин, Владимир Жемчужников… И писать было о чем: Братск, Коршуниха, Тайшет — Абакан… И писали: цветисто, выпендриваясь друг перед другом, размашисто, подменяя цветистостью и размашистостью неумение мыслить. Конечно, это совсем не означает, что мы тогда не умели думать и не думали. Думали. Но немасштабно… периферийно. Лично я почувствовал это довольно скоро, и захотелось уйти из газеты, сменить специальность. Кстати, такое по тем временам считалось модным. Чем больше, скажем, стояло после фамилии какого-нибудь молодого писателя названий перепробованных им профессий, тем он выглядел бывалее, что ли.
Да, тогдашняя Сибирь щедро экспортировала бывалость. Валом десантировались в ту пору из одной только журнальной Москвы в нее развеселые, умеющие мно-о-ого выпить и съесть «чуваки» и «старикашки», чтобы запросто, под гитару, «за ночь ровно на этаж», поднимать новые города, «двигать» гэсы и лэпы, «рубать» уголек и «имать» рыбку… Были, конечно, среди них и вконец бесперспективные: вспомните хотя бы «героя» из проевшего тогда все уши шлягера — он, видите ли, поехал в Сибирь просто — «за туманом»…
С тех пор прошло время, и оно бдительно отцедило все подлинное и натуральное от камуфляжно-заемного, полупереводного. Показушная бывалость обернулась для тех «чуваков энд чувих» из большинства сочинений так называемой «молодежной прозы» 50—60-х годов абсолютным забвением. И это вполне даже справедливо. Ведь бывалость, уверенно думается мне, величина непостоянная. Она, как и зрелость людей, видоизменяется во времени и временем. Бывалость бывалости рознь. Это ясно как семью семь… За ней необходимо следить, ее необходимо поддерживать. К тому же бывалость сама по себе, конечно же, штука хорошая, и без нее порой трудно о чем-то рассказывать, но в то же время она никак уж не льгота какая-то, не «контрамарка» кому-то там на бесплатный проход в литературу. Главная ценность ее в достоверности пережитого и прочувствованного авторами; в своевременности, но не номенклатурной, постановки проблем; в нравственно-житейском, а не командировочном сопричастии их ко всему тому, о чем им вдруг и захотелось написать.
Сейчас, когда само время предоставило возможность что и с чем сравнивать и отчетливо видны качественные перемены в самой сути бывалости автора образца семидесятых — восьмидесятых годов, контрастно отличающие их от бывалости авторов «молодежной прозы», нет-нет да и подумаешь — надо же! — вот ведь какой факт получается: выходит, что на разных этапах развития отечественной литературы то и дело возникает некая голодуха-номенклатура на «писателей из рабочих», и организованно проводятся для них целые годы «открытых дверей», в которые и успевает протиснуться очередной подотряд так называемых «бывалых»…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное"
Книги похожие на "Избранное" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Скоп - Избранное"
Отзывы читателей о книге "Избранное", комментарии и мнения людей о произведении.