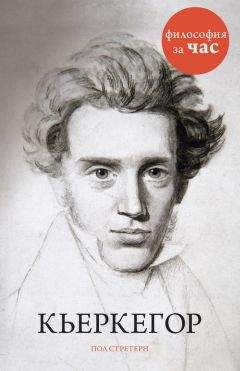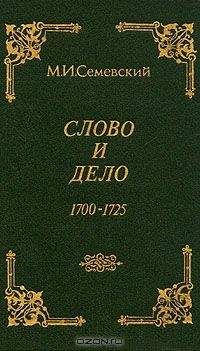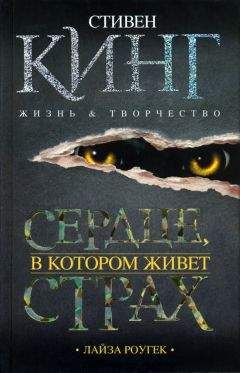Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Из пережитого. Том 1"
Описание и краткое содержание "Из пережитого. Том 1" читать бесплатно онлайн.
4. Русский язык знал я порядочно практически, в чем, однако, не грамматике был обязан. Правописание усвоилось на ходу, привычкой, и этому больше всего способствовали письменные упражнения, которые нам диктовались ежедневно для переводов с русского на латинский и греческий.
5. За нотное пение должен был получить по совести нуль, как я объяснял уже.
6. Арифметика — сносно, но, ежели бы мне дали извлечь кубический или квадратный корень, не ручаюсь, чтобы совершил операцию без запинки. С математикой вообще у меня и после выходило странно. Я пламенно желал ее изучать, но она трудно давалась, и приобретенное очень скоро потом вылетало из головы, скорее, нежели даже стихотворения, о затруднительности которых для моей памяти я уже говорил.
В свою не малую жизнь, после великого множества наблюдений, я пришел к выводу, которым делюсь с читателями: математические способности редко уживаются в ладу с филологическими. Слово «филологический» не точно; я хочу выразить то понятие, которое в старину называли humaniora, филологическое чутье в том числе. Наряду с филологическим чутьем ту же участь испытывает философское (творческое) мышление и вообще всякое творчество. Знаю, что мне могут указать примеры отрицаемого мною совмещения, и сам первый назову Лейбница. Но зато примеров несовместности такое множество, что я готов предложить деление детских способностей на филологические и математические. Тысячу раз попадутся случаи, что дитя очень тонко разберет вам пословицу, укажет сильнейшее место в стихотворении, а в арифметике нейдет далее сложения двух с тремя. Другой ребенок поражает быстрыми сочетаниями цифр, но характеристики прочтенного рассказа или стихотворения не спрашивайте; сущность и форма, глубина и обстоятельность, то либо другое, в чем-нибудь перевес. Я лично не могу себе представить без удивления и некоторого ужаса случай с знаменитым Лапласом, известный в ученом мире. Автор «Небесной механики» где-то в своем труде, держа корректуру, или даже в рукописи, описался, — минус вместо плюс поставил, или не поставил скобок, что-нибудь в этом роде, — и далее пошли у него вычисления, основанные на описке. Книга напечатана, издана, составила эпоху в науке, но с грубою ошибкой в вычислении, которую, однако, сам автор не умел найти и только объявил о ней. Вот это-то последнее и замечательнее всего. О существовании ошибки он помнил и достоверно знал, а найти ее не мог: для этого потребовалась бы процедура нескольких лет, целая меледа, известная игрушка, в которой, чтобы снять одно колечко, надобно по нескольку тысяч раз переснимать и перенадевать весь ряд колец. Ученики, последователи и почитатели Лапласа открыли его ошибку и исправили текст. Но я ставлю себя на место знаменитого ученого и усиливаюсь вообразить состояние ума и души во время этой постановки отвлеченных букв с плюсами и минусами, со скобками и корнями, логарифмами и знаками бесконечного. Какое отличие от неодушевленной машины? Что тут человеческого в работе, при чем душа, мысль, сердце? — «Какой дерзкий, невежественный отзыв, достойный только грубого профана!» Я профан в математике точно, но это не мешает мне глубоко преклоняться пред гением Лапласа и Ньютона. А все-таки не могу себе представить умственной работы, в которой бы так бездействовали высшие силы мыслительные и творческие, как в этом проделывании меледы гениальным автором «Небесной механики» после ошибочно поставленного минуса.
7. Священная история — изрядно; мог пересказать верно события, без особенных мудрований.
8. Катехизис — худо, едва ли не хуже всего, после нотного пения.
Читатель должен поразиться. Что же делать, так было. Тем более поразится читатель, что дело идет о духовном училище; тут-то Закон Божий и должен бы стоять на первейшем плане. Соглашаюсь с основательностью удивления и сочувствую, но так было. Катехизисом не занимались ни учителя, ни ученики; его отбывали как повинность. На экзаменах требовали зубряжки, и таковую подавали; объяснений не спрашивали, и редкий бы ученик их дал. Желаю, чтобы дело стало теперь иначе, нежели в мое время, когда в русском переводе существовал один Новый Завет; но, впрочем, и из Нового Завета тексты, приводимые в Катехизисе, заучивались без перевода; требовалось только, чтобы текст прочитан был твердо, безошибочно; за ошибку, пропуск или перестановку слова взыскивалось строго; за этим наблюдали, но только за этим. Несмотря на то что славянская грамматика полагалась в числе учебных предметов Низшего отделения и действительно преподавалась, не каждому из учеников вразумительно было даже грамматическое строение славянской речи в текстах. Спросить бы любого их моих соучеников, да и меня самого, как, например, по-русски передать «законом закону умрох, да Богови жив буду», — нельзя поручиться, чтоб ответы последовали правильные и отчетливые.
Низкий уровень, на котором стоял Закон Божий, не был принадлежностью только нашего училища. В семинарию, куда я поступил, сверстники мои из прочих училищ принесли те же недостаточные познания в Катехизисе и то же безучастие к Закону Божию вообще, за исключением Перервинского училища. Но то была случайность. Там ученики состояли исключительно из казеннокоштных, а смотрителем одно время был очень набожный иеромонах. Богомольный характер, под его кратковременным управлением, приняло и все училище; в классах и келейных беседах аскет-смотритель не переставал обращаться к урокам религии, рассказывал, пояснял, и из этой школы вышли ребята более сильные в Катехизисе, с некоторыми притом лишними церковно-историческими познаниями и не безучастные вообще к Закону Божию. Не мешает добавить, что в остальном-то они плоховали.
Итак, не с большим запасом вышел я из училища, если принять во внимание мои годы: мне было четырнадцать лет. Разнообразными, обширными познаниями я обладал; но ими не училищу был обязан. Школьная подготовка была очень посредственная; а я еще был первым учеником! Прочие были еще слабее и вдобавок были неразвиты; следовательно, недоставало в них именно того, чего главным образом должно достигать детское воспитание.
Иначе, впрочем, не могло быть. В духовных училищах тогда (да и теперь, кажется, так остается), строго говоря, не было ни учителей, ни инспекторов, ни смотрителей. В Коломне ректором (и учителем вместе) был прежний профессор, а ныне протоиерей и благочинный; инспектором (он же и учитель) состоял священник приходский; прочими учителями — студенты семинарии, чающие поступить в московские дьяконы и принявшие учительство в видах заслужить учебною службой предпочтение пред сверстниками при определении на священнослужительское место. Учительство для них было временное занятие, а для ректора с инспектором — побочное. Пусть и у ректора, и у инспектора посещение классов брало много времени; но интерес преподавания не мог быть для них главным; ученый ректор вознею с мальчиками, без сомнения, даже тяготился. От преподавания лекций в высшем учебном заведении перейти к чтению ученических упражнений в синтаксисе и к спрашиванью уроков «от сих до сих» не могло быть весело. Вдобавок, при назначении преподавателей даже в семинарию, не говоря об училищах, никогда в духовном ведомстве не обращаемо было внимание на естественный вопрос: приготовлен ли учитель сам к своему предмету? Предполагалось, что, кто прошел школу, тот уже знает преподаваемые в ней предметы и, следовательно, может быть учителем. Ни то ни другое предположение неосновательно. Не всегда тот, кто знает предмет, способен и преподавать его. И это еще не главная беда, а могло случиться, да обыкновенно и случалось, что кончивший курс не только в семинарии, но даже в академии знает, например по-гречески, менее, нежели ученик, оканчивающий курс в училище. Учитель должен сам учиться, и учиться на ходу, во время самой учительской должности. А у кого учиться и чем руководиться? Учебную литературу нашу нельзя признать богатою до сих пор. А в мое время ее не было вовсе. Итак, учитель, поступая на любой предмет, имел пред собою те же руководства, какие и ученик, с единственною разницей, что сам он развитее и понятливее ученика.
Последствием такого порядка было, что уровень наук в училищах и семинариях со времени их преобразования в 1814 году постепенно падал, ибо учительский персонал не освежался новым притоком посторонних сил. От плохих учителей выходили плохие ученики, которые, оканчивая курс, становились еще более плохими учителями, нежели те, у кого они учились сами. Когда готовилось новое преобразование духовно-учебных заведений (третье) в конце шестидесятых годов и мне приходилось беседовать о нем с лицами, стоявшими во главе духовного ведомства, я советовал тогда обратить внимание прежде всего на подготовку учительского контингента. В новые меха вливать старое вино — не полезно. Состоявшаяся реформа, однако, не только вино оставила старое, но и меха устроила худые, установив деморализующее самоуправление. На этот раз старое-то вино, впрочем, и сослужило службу, сохранив еще несколько предание. А наука не поднялась, да и нечем было подняться.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Из пережитого. Том 1"
Книги похожие на "Из пережитого. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1"
Отзывы читателей о книге "Из пережитого. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.