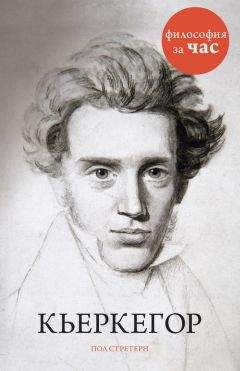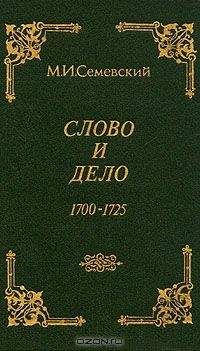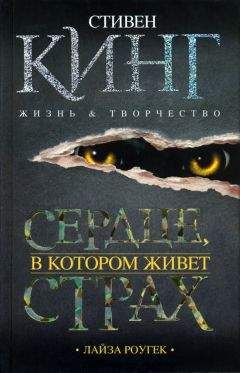Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Из пережитого. Том 1"
Описание и краткое содержание "Из пережитого. Том 1" читать бесплатно онлайн.
Смерть деда вызвала отца в Коломну. Место Матвея Федоровича было ему предоставлено, но с условием купить дом у сестер-вдов, живших на попечении деда, Марьи и Татьяны. Последние деньжонки, какие были, отчасти полученные за черкизовский дом, отчасти сохранившиеся от материнского приданого, отчасти скопленные матерью, пришлось отдать, и пришлось занять еще. На время предоставлено было наследницам деда проживать в том же доме в светелке; дело было летнее. Не на добро пошли деньги. У молодых вдов начался кутеж; откуда взялись приятели и приятельницы, пьянство, песни, гам, топотня! «А я сижу, — рассказывала мать моей старшей сестре, — слушаю да и плачу. Вот куда идут кровные деньги, вот как поминают родителя! А ведь несчастные к нам же опять придут промотавшись; куда же иначе денутся?» Предсказание матушки сбылось. Спустив наследство, прибегли к нам, и, к счастию, нашлась возможность устроить по крайней мере одну сестру, Марью. Ее старшему сынишке было уже лет четырнадцать, и он определен был причетником к Никитской же церкви; младшего отдали в монастырь. Здесь из послушников он дорос до иеродиакона.
Не знаю, предстанет ли мне случай вернуться к этим чадам Марьи Матвеевны. Расскажу их судьбу. Ивана Евсигнеевича (старшего) перевели скоро в другой, соседний, приход вследствие указа, запретившего служение близких родственников в одном причте. Много ли мало ли он там прослужил, но он был отрешен от места; должно быть, за пьянство, хотя я его не знал пьяницей. Как сквозь сон помню, рассказывали, что на следствии он отзывался «падучею болезнью». Отсюда подозреваю, не повалился ли он когда-нибудь пьяный с амвона при самом чтении Апостола. Помнится, как будто так и передавали. Подобный казус, конечно, должен был возбудить дело, хотя, может быть, и не повести к отрешению от места, при более милосердом взгляде начальства. Как бы то ни было, много попесталась с ним несчастная мать. Беды какие-то большие угрожали Ивану Евсигнеевичу, и тетка отправилась в Москву, где ежедневно путешествовала с Девичьего поля в город. Из рассказов ее узнал я, что есть в Москве «Боровицкие ворота», и старался их себе представить. От самого Ивана Евсигнеевича, возвратившегося целым и невредимым, узнал, что в Москве есть «яма» и есть «острог», где он сидел. Каким образом он мог попасть в «яму», назначенную для должников? Но в остроге он видел Николая Павловича, и государь давал ему вопросы.
Не лучше судьба постигла и младшего сына, Алексея, в монашестве Арсения: он был расстрижен, понятно, тоже за добрые дела. Оба брата промышляли чтением и пением в церквах, помогая причетникам, а главное — чтением Псалтырей по покойникам — занятие, в котором упражнялся дед Федор Андреевич и которое оставил он в наследство Вагатке (так называл он Ивана Евсигнеевича, когда тот был ребенком). Жена Ивана Евсигнеевича с двумя детьми бросила его и жила отдельно, прокармливаясь работой, а он принанимал угол у нашего дьячка. Алексей Евсигнеевич пропадал по разным местам, изредка появляясь.
Иван Евсигнеевич был философ и художник. Редкое ремесло не было ему знакомо: он шил башмаки, делал клетки, собирал и разбирал часы; починка замков не обходилась без него. Первоначальным учителем у него был дед Федор Андреевич. Иван Евсигнеевич рассуждал, что птицы говорят и звери говорят и что надо понимать их язык; что воробьи говорят отчасти даже по-нашему, один: «жив, жив, жив», другой отвечает: «чуть жив, чуть жив, чуть жив». Посмотрите на галок, ворон, как они переговариваются; молчат долго и вдруг все заговорят; сговариваются, куда лететь и что делать. Гуси, утки при отлете дожидаются товарищей на определенной станции и летят, когда прибудут ожидаемые. Скворцы осматривают квартиры сообща, приводят сначала знакомых посмотреть, хорош ли скворечник. Убивать животных по-настоящему грех; не знаем, кого убьем: может быть, душу человеческую загубим. От Ивана Евсигнеевича я узнал, что есть страна, с которою никогда не бывает и не будет войны; такое у нее положение, — Китай. Он же передавал, что русский царь каждый день тратит по миллиону на войско и что государь (Николай Павлович) родился в 1796 году и потому ему ровесник. Воспроизводил рассказы, слышанные от деда Федора Андреевича о солдатском житье-бытье и особенно о солдате Щипакине, который потешал всю роту в страшное время Павла и который не плоше дяди Василия Федоровича, разбивавшего стекла голосом, на пари сдувал четверик круп со стола и гасил двенадцать свеч, стоящих рядом, только не голосом. А более всего утешал меня Иван Евсигнеевич своими рассказами о покойниках. Я жался к нему содрогаясь, но просил рассказывать. Лет двенадцати был он, и пришлось ему читать по покойнику в церкви, притом ночью, чередуясь с пономарем; тело стояло в приделе, отделяющемся от коридора, за которым был другой придел «фарамугою» (стеной из стеклянных рам). «Читаю и слышу, будто кто-то по стеклам фарамуги прутиком ведет. Стало жутко; пойти к пономарю, спавшему на паперти, — надо пройти чрез эту самую фарамугу. Я подошел к алтарю, двигаясь задом от покойника и задом возвращаясь. Взял пук свеч и весь его зажег, чтобы было веселее. Звук продолжается; начинаю читать громче, чтобы заглушить его, а он меня заглушает. Уставился в книгу, но поднял случайно глаза и вижу — вдруг царские двери растворились. Упал и больше не помню; пономарь потом, когда пришел на смену, поднял меня». Рассказывал он мне, что здесь, в Никитской церкви, совершилось чудо, и с негодованием прибавлял: «Кабы не такой ваш дедушка был, то церковь бы прославилась. Икона Силуамской Божией Матери, знаете, стоит налево в холодной (я знал, что она есть, и киваю ему головой). Снилось слепой деревенской бабе, что она выздоровеет, когда пойдет к Никите Мученику и отслужит молебен Силуамской Божией Матери. Она знала, что есть Никита Мученик, но что есть там Силуамская Божия Матерь, не слыхала.
Является к вашему дедушке. И тот путем не знал, что это Силуамская, но по объяснению старухи отслужил молебен. Старуха выздоровела и прозрела; каждый год потом являлась на богомолье». Я передавал о рассказе Евсигнеевича отцу и спрашивал подтверждения. «Да, что-то было такое», — отвечал он небрежно. Отец был отчасти рационалист, хотя самым строжайшим образом исполнял мельчайшие постановления церкви. Удивительное сочетание двух токов: одного, унаследованного от семьи, а другого — от лютеранского богословия (Мозгейма), по которому учился, и от книг, которые читал.
Несколькими заключительными чертами дополню духовный образ моего родителя. Когда случалось ему вести продолжительный разговор (для этого нужно было, чтоб он был несколько навеселе), он бывал остроумен, меток в суждениях, давал читанному, слышанному, лицам и поступкам дельную оценку. Прозвища, которые он давал, так и прирастали к человеку: назвал одного раз «сомовьим рылом», иначе потом не звали его и другие. Другую окрестил «аршин проглотила», и говоря об этой гордой особе, прибавляли и другие ту же характеристику. Помимо наружности, клеймил он столь же метко душевные качества. Мысли свои способен был излагать толково и литературно. Таковы его письма к родным. Но во всю жизнь не решался написать проповеди, кроме той, которую поневоле должен был сочинить, когда был еще в семинарии студентом; очередные проповеди ему писали сыновья. Я знаю еще другой такой пример богатого внутреннего содержания, но которое не шло далее изустной речи, и притом не от лености. Покойный Ф.А. Голубинский, профессор философии в Духовной академии — глубина и широта учености необъятные, импровизация блестящая; но заставить его написать что-нибудь было выше сил человеческих. Ректор Алексий (скончавшийся потом архиепископом Тверским) поступил с ним, как с английскими присяжными, запер на ключ. Написал взаперти профессор предисловие к письмам «О конечных причинах», но тем и кончил; труд, начало которого было уже напечатано, продолжен был другим. Что же это такое? Я не думаю равнять своего родителя со знаменитым профессором, но явление однородное. У Голубинского мы, слушатели и сослуживцы, объясняли этот недостаток подавляющею громадой знаний, с которою, как нам казалось, не совладевал ученый. Суждение, может быть имеющее долю основательности, но натянутое: излагал же Голубинский своим слушателям целую систему. Это недостаток не ума, а воли: где-то, что-то надломлено, какой-то проводник оборван, и даже не между мыслию и словом, а между словом и письмом; какое-то своего рода суеверие пред начертанным звуком. Я склоняюсь видеть причину этого явления в семинарском воспитании. «Сочинение» — это есть последняя, главная, можно сказать, даже единственная задача семинарского воспитания. Мерка для определения удовлетворительности сочинения в силу того преувеличенно возрастает у обязанных «сочинять», и они отступают, по застенчивости, как мой отец, и по смирению, как Ф.А. Голубинский.
ГЛАВА VII
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Из пережитого. Том 1"
Книги похожие на "Из пережитого. Том 1" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1"
Отзывы читателей о книге "Из пережитого. Том 1", комментарии и мнения людей о произведении.