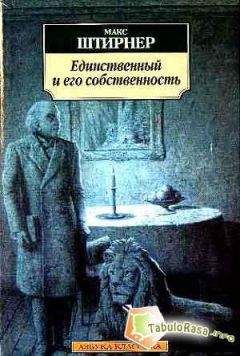Макс Нордау - Вырождение. Современные французы.
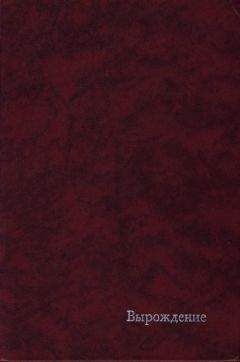
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Вырождение. Современные французы."
Описание и краткое содержание "Вырождение. Современные французы." читать бесплатно онлайн.
Макс Нордау
"Вырождение. Современные французы."
Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.
В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.
Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.
Но остановимся подробнее на одном из его стихотворений, которое содержит в себе зародыш позднейшего символизма и представляет поучительный пример этой формы мистицизма. Стихотворение это озаглавлено «Дочь короля». Это — род баллады, рассказывающей нам в четырнадцати строфах волшебную историю о десяти королевнах, из которых одна во вред своим сестрам пользуется особенным расположением отца, всегда роскошно одета, живет всласть и любима красивым принцем. Но она несчастна и даже призывает смерть. Первый и третий стих каждой строфы содержит рассказ, а во втором говорится о каком-то сказочном мельничном ручье. Откуда взялся этот ручей — неизвестно, но он отражает в себе символически все перипетии рассказа. Четвертый стих составляет однообразное восклицание, также относящееся к ходу рассказа. «Нас было десять девушек в зеленой ржи — так начинается стихотворение,— маленькие красные листья в мельничной воде. Более красивых девушек никогда не родилось; золотые яблоки — для королевской дочери. Нас было десять девушек у журчащего ключа — маленькие белые птички в мельничной воде. Более сладостных невест никогда не было; красные кольца — для королевской дочери». В следующих строфах восхваляются достоинства каждой из десяти королевен, а символические промежуточные стихи гласят: «Пшеничные зерна в мельничной воде — черный и белый хлеб — для королевской дочери. Красивые зеленые растения в мельничной воде — белое и красное вино для королевской дочери. Красивый тонкий тростник в мельничной воде — сотовый мед для королевской дочери. Засохшие листья в мельничной воде — золотые перчатки для королевской дочери. Упавшие плоды в мельничной воде — золотые рукава для королевской дочери». Наконец, появляется принц, избирает себе одну из королевен и отвергает остальных. Символические стихи указывают на блестящую судьбу избранной и горькую долю отвергнутых. «Слабый ветерок в мельничной воде — красная корона для королевской дочери. Редкий дождь в мельничной воде — соломенное ложе для остальных, золотая кровать для королевской дочери. Дождь мутит мельничную воду — гребешок из желтых раковин для остальных, золотой гребешок для королевской дочери. Ветер и град проносятся над мельничной водой — пояса из травы для всех остальных, нарядный пояс для королевской дочери. Снежинки сыплются в мельничную воду — десять поцелуев для всех остальных, сто раз больше для королевской дочери». Королевская дочь, следовательно, очень счастлива и возбуждает зависть в своих сестрах. Но это только так кажется: картина внезапно изменяется. «Сломанные челны в мельничной воде — золотые подарки для всех остальных, тяжелое горе для королевской дочери. Выройте могилу для моего красивого тела. Проливной дождь льет в мельничную воду — и положите моих братьев возле меня. Адские муки для королевской дочери». Причину этой перемены поэт умышленно проходит молчанием. Может быть, он хочет дать понять, что принц — брат королевен и что избранная погибает вследствие этого кровосмешения. Это напоминало бы демоническую музу Суинберна. Но нас в данном случае интересует не эта сторона вопроса, а символизм поэта.
Психологически совершенно верно устанавливать связь между внешним миром и разными душевными настроениями, видеть в первом отражение вторых. Когда внешний мир имеет определенный вид, то он вызывает в нас соответственное настроение, и наоборот, когда нами овладевает определенное настроение, то мы замечаем во внешнем мире только то, что гармонирует с нашим настроением, поддерживает, усиливает его, и не замечаем всего остального. Темное ущелье с нависшими над ним мрачными тучами всегда настраивает нас на печальный лад. С другой стороны, когда мы сами почему-либо уже грустно настроены, мы везде видим только печальные картины: на улицах большого города — голодных, худых детей в лохмотьях, замученную извозчичью клячу, слепого нищего; в лесу — засохшую, сгнившую листву, ядовитые грибы, слизняков и т. д. Когда мы веселы, мы замечаем совершенно другое: на улице — свадебный поезд, краснощекую, смазливую девушку, разноцветные афиши, смешного толстяка со шляпою на затылке; в лесу — порхающих птичек, красивых бабочек, пестрые цветки и т. д. Поэты с полным правом пользуются обеими формами соответствия между внешним миром и нашим настроением.
Но символизм Суинберна совершенно иного рода. У него внешний мир не отражает данного настроения, а рассказывает нам целую историю; природа изменяет свой вид, смотря по событиям; она, словно хор в классических трагедиях, поясняет все происходящее на сцене. Здесь природа уже не белая стена, на которой отражаются пестрые картины нашей душевной жизни; она у Суинберна — живое, мыслящее существо, следящее вместе с поэтом за перипетиями греховной драмы и выражающее вместе с ним удовольствие, восторг, печаль — смотря по обстоятельствам, т.е. по ходу рассказа. Это — бред, соответствующий в поэзии галлюцинациям душевнобольных. Как у Суинберна по ручью несутся «маленькие красные листья» и даже «маленькие белые птички», когда все идет хорошо, и, наоборот, «разбитые челны» или же его хлещет снег и град, когда дела принимают дурной оборот,— так у Золя, в его «Кабачке», из сточной трубы красильной течет в хорошие дни розовая и золотисто-желтая вода, а когда судьба Жервезы и Лантье ухудшается — мутная и даже черная, а у Ибсена, в его «Привидениях», разверзаются хляби небесные, когда г-жу Алвинг и ее сына постигает горе, и солнце весело сверкает, когда начинается катастрофа. Ибсен заходит, впрочем, дальше других: у него природа не только принимает деятельное участие в событиях, но подчас даже прямо над ними издевается.
У Морриса ум сравнительно нормальнее, чем у Россетти и Суинберна. Неуравновешенность проявляется у него не в мистицизме, â в недостатке оригинальности, в чрезмерной подражательности. Манерничанье его состоит в пристрастии к средним векам. Он сам называет себя учеником Чосера. Кроме того, он выписывает целые строфы у Данте, например из пятой песни «Ада». Так, он поет в одной из своих поэм: «В этот прекрасный сад, гуляя, пришел Ланчелот; это верно; поцелуй, которым мы обменялись при встрече в этот день! О, я не решаюсь говорить о блаженстве этого воспоминания». Моррис убеждает себя, что он — трубадур XIII или XIV века, и старается говорить и смотреть на все так, как будто он в самом деле современник Чосера. Кроме этого поэтического чревовещательства, этих усилий изменять голос так, как будто он слышится издалека, у Морриса мало психопатического, хотя он иногда и проявляет слишком большую склонность к звукоподражанию, повторяет в трех стихах пять раз одно и то же слово. За последнее время он, благодаря своей впечатлительности, сделался сторонником гуманного социализма, сотканного главным образом из сострадания и любви к ближнему и производящего довольно странное впечатление в форме искусственного языка старых баллад.
Прерафаэлиты имели значительное влияние на поэтов, народившихся в течение последних двадцати лет. Выродившиеся и истеричные субъекты воспевали «блаженных дев», подражая Россетти, восхваляли противоестественные пороки, преступления, ад и черта, подражая Суинберну, и силились говорить на языке бардов, подражая Моррису. Если в настоящее время не вся английская поэзия заразилась декадентством, то только благодаря той счастливой случайности, что одновременно с прерафаэлитами жил и действовал такой здоровый поэт, как Теннисон. Официальные почести, выпавшие на его долю, беспримерный его успех у читателей доставили ему подражателей, по крайней мере среди некоторых второстепенных поэтов; вот почему наряду с хором мистиков раздаются и голоса, вторящие поэту-лауреату.
В дальнейшем своем развитии прерафаэлизм народил в Англии «эстетиков», во Франции — «символистов». Эти два течения будут нами подробнее рассмотрены в следующих главах.
Символисты (Верлен, Малларме, Мореас)
Школа французских символистов возникла совершенно так же, как и школа прерафаэлитов. Собралось несколько молодых людей, с тем чтобы создать новую школу с особенным названием. Но на самом деле оказалось, что, несмотря на туманную болтовню и разные попытки обморочения людей, эта школа не имела ни общих эстетических законов, ни ясной художественной цели, а стремилась, конечно втайне, лишь к тому, чтобы наделать шума, обратить на себя разными странностями внимание и этим путем доставить себе славу, наслаждение и удовлетворить своему честолюбию, которым были преисполнены эти разъедаемые завистью авантюристы.
В начале восьмидесятых годов в одной из кофеен Латинского квартала, расположенной на набережной Сен-Мишель, ежедневно вечером собиралась группа людей приблизительно одного возраста. Засиживаясь здесь до поздней ночи или до утра, они курили, пили, острили насчет признанных и зашибавших деньги писателей и хвастались собственным изумительным, хотя и никому не ведомым талантом. Ораторствовали главным образом: Эмиль Гудо, болтун, известный только несколькими вздорными шутовскими стихотворениями, Морис Роллина, автор «Неврозов», и Эдмон Гарокур, ныне стоящий во главе французских мистиков. Называли они себя «гидропатами», совершенно бессмысленным названием, состоявшим, очевидно, из двух слов: «гидротерапия» и «невропаты». При своей туманности, характеризующей обыкновенно вымыслы слабоумных, оно могло только означать людей не совсем здоровых и нуждающихся в лечении. Во всяком случае избранное ими самими название указывает на смутное признание нервного расстройства. У «гидропатов» был свой недельный листок «Lutece», который, однако, просуществовал очень недолго.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вырождение. Современные французы."
Книги похожие на "Вырождение. Современные французы." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Макс Нордау - Вырождение. Современные французы."
Отзывы читателей о книге "Вырождение. Современные французы.", комментарии и мнения людей о произведении.