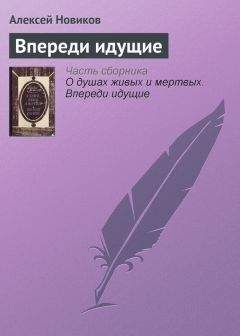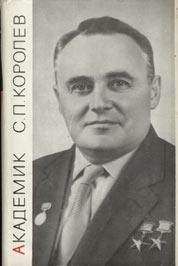Евгения Филатова - Белинский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Белинский"
Описание и краткое содержание "Белинский" читать бесплатно онлайн.
В книге дается анализ философских и социологических воззрений великого русского революционного демократа В. Г. Белинского. Автор показывает упорные поиски им правильной теории, эволюцию его идей от идеализма к материализму, развитие его диалектического метода, раскрывает значение Белинского как центральной фигуры в идейной борьбе 40-х годов XIX в. в России.
Как же представляет себе Белинский процесс познания? Он считает, что познание начинается с ощущений, которые он понимает материалистически. «Каждый человек, — говорит критик, — начинает с того, что непосредственно поражает его ум формою, краскою, звуком; а природа полна форм, красок, звуков» (3, 6, 13). Мысль, по мнению Белинского, рождается из ощущений. Он солидаризируется с положением Локка: «Ничего не может быть в уме, чего не было в чувстве» (3, 8, 510), расходясь с гегелевской формулировкой: «…ничего не может быть в уме, чего не было бы в чувстве, кроме самого ума». Отвергая добавление Гегеля «кроме самого ума», Белинский пишет: «Но эта прибавка едва ли не подозрительна, как порождение трансцендентального идеализма. Человек не прямо же, не чистым мышлением дошел до сознания, что у него есть ум, а заметил это прежде всего из собственных действий, в которых отразился его ум, но которые он опять-таки только через чувства сознал своим умом» (3, 10, 145). При этом критик добавляет, что даже самые отвлеченные представления являются результатом деятельности мозга.
Интересно отметить, что, характеризуя возникновение мысли из ощущений, критик обращается к произведениям Лермонтова, читая которые, «кажется, сопутствуешь духом таинству мысли, рождающейся из ощущения, как рождается бабочка из некрасивой личинки» (3, 5, 452). Белинский считает, что ощущение «есть только приготовление к духовной жизни» (3, 7, 166), но еще не духовная жизнь, которую он определяет как чувство, имеющее в основе своей мысль. Сознание человека Белинский рассматривает как единство мысли и чувства. Он пишет: «В мысли без чувства и в чувстве без мысли виден только порыв к сознанию, половина сознания, но еще не сознание: это машина, кое-как действующая половиною своих колес, и потому действующая слабо и неверно» (3, 8, 278). Критик ставит мысль выше чувства, однако только тогда, когда чувство является непосредственным, когда оно еще не имеет в своей основе мысль. Подчеркивая свою веру в силу разума, Белинский и чувству отводит не менее важную роль в познании, утверждая, что без него «разум есть ложь», более того, «разум есть сознавшее себя чувство» (3, 4, 237). Он считает, что разум и чувство «родственны, односущны» друг другу (см. 3, 5, 220) и оба имеют решающее значение в познании.
В 1841 г. Белинский анализирует сущность представлений и понятий, подчеркивая различия между ними. В трактовке этих категорий видно влияние как диалектики, так и идеализма Гегеля. Подобно немецкому философу, критик ставит представление ниже понятия и считает его простой эмпирической формой, не охватывающей главного — перехода от одного явления к другому. Понятие Белинский называет философской мыслью, или идеей. Он рассматривает его как нечто живое, способное к органическому развитию и заключающее в себе две стороны, которые представляют собой единство противоположностей и борются друг с другом. Каждая из этих сторон имеет свою долю истины и свою долю лжи, а искомая истина заключается в их примирении, в их слиянии, результатом чего становится новое понятие. Здесь Белинский рассуждает почти по Гегелю, рассматривавшему понятие как движение, как «переход» на основе единства и борьбы противоположностей. Но если для Гегеля исследование процесса движения понятий было преобладающей задачей, то для Белинского главным было установление их связи с жизнью.
Останавливаясь на различных методах познания, Белинский характеризует аналитический метод и отмечает его большое значение. Он говорит, что для познания истины необходимо «разъединение идеи от формы, разложение элементов, образующих собою данную истину или данное явление. Это действие разума отнюдь не отвратительный анатомический процесс, разрушающий прекрасное явление для того, чтобы определить его значение. Разум разрушает явление для того, чтобы оживить его для себя в новой красоте и в новой жизни… От процесса разлагающего разума умирают только такие явления, в которых разум не находит ничего своего и объявляет их только эмпирически существующими, но не действительными» (3, 6, 270). Здесь форма идеалистична, но за ней скрывается правильная мысль о том, что путем анализа мышление не отходит от истины, а приближается к ней. отделяя ее от лжи и глубже проникая в суть явления.
На основе идеалистической диалектики Белинский разбирает и вопрос об абстракции как методе научного познания. «До постижения идеи, — говорит он, — мы доходим искусственным путем отвлечения: следовательно, идея сама по себе есть только одна сторона предмета, искусственно отделяемая нами от живой всецелости предмета, для того чтоб нам можно было отрешиться от непосредственного, эмпирического способа понимать этот предмет» (3, 6, 582). Но критик знает, что познание не может закончиться абстракцией. Еще в одном из писем Бакунину он писал, что знание всякой действительности, чтобы быть истинным, должно быть конкретным. Он и к понятию конкретного подходит диалектически и определяет его как единство всех сторон, всех элементов предмета.
Какую роль в теории познания Белинский отводит практике? Вся его философия пронизана идеей о единстве теории и практики. Он не рассматривает практику как материально-производственную деятельность людей, но он видит в ней форму общественной деятельности. Он приближается к пониманию, что наука, теория возникает и развивается на основе практических потребностей людей.
В своей ранней статье «Опыт системы нравственной философии А. Дроздова», в которой он превозносит априорное познание и отрицает значение эмпирического, критик пытается вместе с тем поставить вопрос об опыте, т. е. о совокупности фактов как о критерии истины. Он высказывает мысль о возможности «поверки умозрения опытом». «Если умозрение верно, то опыт непременно должен подтверждать его в приложении… Если факты поняты верно, они непременно должны подтверждать умозрение…» (3, 2, 243). Однако этот правильный тезис обосновывается критиком в чисто идеалистическом духе: он утверждает, что само «опытное знание» есть умозрительное, что факт имеет значение не сам по себе, а по тому понятию, которое мы к нему прилагаем. В более зрелых своих произведениях Белинский говорит о единстве теории и практики в процессе познания, причем первенствующую роль отводит практике. «Так как человек не только существует, но еще и мыслит, то всякий предмет, в отношении к нему, существует не только практически, но и теоретически, и человек только тогда вполне владеет предметом, когда схватывает его с этих обеих сторон. Но одно практическое обладание предметом еще значит что-нибудь, тогда как одно Теоретическое ровно ничего не значит» (3, 7, 391–392). Белинский называет ложным и пустым все, что «не подходит под мерку практического применения» (3, 7, 389). «Дело — в деле» (3, 7, 392), — заявляет он.
Белинский критикует современную ему философию за отрыв от жизни, от практики. Он ставит вопрос о необходимости при решении социологических проблем учитывать активное воздействие человека на природу (см. 3, 3, 197; 6, 274–275). Создавая революционно-демократическую эстетику, Белинский основой ее провозглашает художественную практику, считая, что эстетическая теория должна не учить художников творчеству, а выводить законы изящного из уже существующего искусства. Все это говорит о том, что Белинский видел огромную роль практики в процессе познания, но все же в его гносеологии практика так и не заняла нужного места ни как основа познания, ни как критерий истины.
Белинский на всех этапах своего развития безоговорочно признавал познаваемость мира. Осуждая агностицизм, он писал: «Величайшая слабость ума заключается в недоверчивости к силам ума» (3, 8, 274). Он утверждал, что «скептицизм отчаивается в истине и не ищет ее» (3, 6, 269). Критик считал, что существует и объективная и абсолютная истина. Истина, говорил он, есть «общее, необходимое, вечное» (3, 5, 231). Белинский подходил и к этой проблеме как диалектик. Наряду с абсолютной он признавал и относительную истину, считая, что условное и относительное составляют форму безусловного (см. 3, 7, 431). Заявляя, что все на свете относительно, он ставит риторический вопрос: «Как, — скажут нам, — истина и добродетель — понятия относительные?» — «Нет, — дает ответ Белинский, — как понятие, как мысль они безусловны и вечны; но как осуществление, как факт они относительны. Идея истины и добра признавалась всеми народами, во все века; но что непреложная истина, что добро для одного народа или века, то часто бывает ложью и злом для другого народа, в другой век» (3, 10, 23). Поэтому, делает вывод критик, не сомневаясь в существовании истины вообще, можно сомневаться в тех или иных истинах: «…истины преходящи, но истина вечна!» (3, 6, 473).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Белинский"
Книги похожие на "Белинский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Евгения Филатова - Белинский"
Отзывы читателей о книге "Белинский", комментарии и мнения людей о произведении.