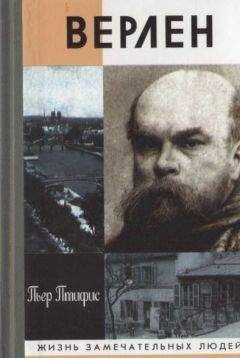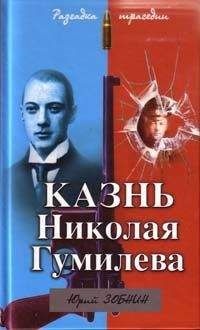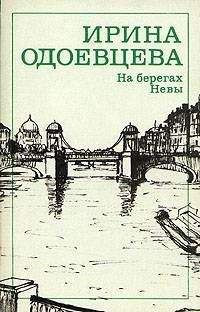Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева"
Описание и краткое содержание "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева" читать бесплатно онлайн.
Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.
В письме к Брюсову от 27 ноября Гумилев пишет, что вернулся в Царское недели три назад. То есть около 9 ноября.
Попробуем посчитать. Если Гумилев возвращался из Египта «тем же путем», он должен был прибыть в Одессу 27 или 28 октября, в Киев — 30-го или 31-го, в Петербург (если считать, что в Киеве он провел не больше двух дней) — между 3 и 5 ноября. Впрочем, пароход из Каира в Одессу мог доплыть и несколько быстрее: все зависело от продолжительности стоянок в портах. Существует письмо Гумилева к В. Кривичу, при публикации[49] датированное «26 октября, Каир». В этом письме он обещает «быть через несколько дней» в Царском Селе. Может быть, надо читать не «Каир», а «Киев»? (Тем более что из Каира добраться до Царского Села за несколько дней в ту эпоху было физически невозможно.) Если так, Гумилев должен был вернуться домой примерно к 1 ноября.
Таким образом, его поездка заняла не шесть, а по меньшей мере семь с половиной недель. Из них в Египте — пять дней.
Так вот путешествовали без малого сто лет назад…
Глава пятая
Инициация
1
В Царском Селе Гумилев поселяется с родителями — сперва на Конюшенной улице, 35, в доме Белозеровой (ныне дом 29), потом (с 1909 года) — на Бульварной улице, 49, в доме Георгиевского. Семикомнатная квартира в доме Белозеровой была тесна для огромной семьи: больной отец, мать, Николай, Дмитрий, Александра с сыном и дочерью. Николаю было трудно, потому что уже никто в семье (кроме матери) не был для него в эти годы по-настоящему близким человеком: ни Дмитрий — заурядный молодой офицер, ни отец, ни Александра, которую В. Срезневская, общавшаяся с ней в 1910-е годы, называет «злой, завистливой и чрезвычайно неумной»[50]. У Гумилевых жила еще и собака — Молли, сука английского бульдога. Летом 1912 года она принесла щенков; в 1916-м она была еще жива и здорова. Поэт относился к ней с большой нежностью.
Нижний этаж занимала семья художников — Дмитрий Николаевич Кардовский, видный книжный график и сценограф, и его супруга Ольга Людвиговна Делла-Вос-Кардовская, живописец, с дочерью и прислугой. Гумилевы и Кардовские продолжали общаться и после переезда на Бульварную. Ольга Делла-Вос-Кардовская написала в ноябре 1908-го (т. е. сразу же по возвращении из Египта) портрет Гумилева, привлеченная не столько его поэтическим даром, сколько «какой-то своеобразной остротой в характере лица». Удивительно, что общепризнанно некрасивая внешность Гумилева становилась предметом интереса стольких художников — в течение всей его жизни.
Продолжаются и другие царскосельские знакомства.
Дмитрий Кардовский, 1900-е
Чаще, чем прежде, видится он в это время с Анненским, который, как вспоминал он позднее, «поражал пленительными и необычными суждениями». Видимо, те воспоминания, которые зафиксированы в стихотворении «Памяти Анненского», относятся именно к этому времени:
Я помню дни: я робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.
Десяток фраз, пленительных
и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространства
безымянных
Мечтаний — слабого меня.
Мы довольно мало знаем про «живое» общение двух поэтов. Разумеется, ни в коем случае нельзя воспринимать как мемуарное свидетельство чисто беллетристический текст Г. Адамовича «Вечер у Анненского», где автор (которому в момент смерти Анненского было семнадцать лет) гостит у Анненского вместе с Гумилевым и Ахматовой (которая не была с Анненским знакома и которая в 1909 году ни разу не была в Царском Селе). Несомненно одно: только в эти годы Гумилев, сам искавший новые пути для своей поэзии, приближавшийся к черте зрелости, по-настоящему оценил гений своего гимназического «грека». Именно Гумилев открыл поэзию Анненского сверстникам и способствовал его вхождению в круг деятелей «нового искусства» — круг, от которого Иннокентий Федорович долго был отлучен обстоятельствами.
Образовательный разрыв между переводчиком Еврипида, ученейшим филологом, и недавним гимназистом-двоечником был велик. Но если Гумилев многое знал приблизительно и понаслышке, то базовые вещи помнил хорошо — и бывший директор Царскосельской гимназии имел случай оценить это. Делла-Вос-Кардовская вспоминает, что «он однажды спорил с Анненским о каких-то словах в произведении Гоголя и цитировал на память всю вызвавшую разногласие фразу. Для проверки мы взяли том Гоголя, и оказалось, что Николай Степанович был прав».
Ольга Делла-Вос-Кардовская, 1900-е
В годы, когда Гумилев находился в Париже, в Царском Селе появился еще один поэт. Человек лет под тридцать, высокого роста, плотный, коротко остриженный, с очень румяным лицом, он ежедневно подолгу прогуливался по царскосельским паркам — с тростью в руках и с завернутыми штанинами. Но царскоселы знали, что этого (на вид) здоровяка, графа Василия Алексеевича Комаровского, заставила поселиться в пригороде у пожилой тетушки неизлечимая «падучая болезнь». Сам он мог спокойно рассказывать «о своем бесновании в комнате с мягкими стенами». Юность его, как у князя Мышкина, прошла в европейских нервных лечебницах. Кроме эпилепсии, он страдал тяжелейшим пороком сердца. У него были основания не ожидать особенно долгой жизни…
Гумилев познакомился с Комаровским у Делла-Вос-Кардовской, позируя ей для портрета.
За чаем между ними возник спор о поэзии. Василий Алексеевич отстаивал необходимость полного соответствия между формой и содержанием. Н. С., насколько я помню, отстаивал преимущественное значение формы. Во время спора Комаровский сильно волновался, говорил быстро и несвязно. Гумилев был, как всегда, спокоен и сдержан, говорил медленно и отчетливо. Чувствовалось, что на Комаровского он смотрит как на дилетанта. Того это, конечно, особенно задевало. Простились они холодно и, казалось, разошлись врагами. Мне при уходе Н. С. тогда же сказал, что Комаровский большой чудак и что с ним невозможно разговаривать.
Каково же было мое удивление, когда на другой день на свой очередной сеанс Н. С. пришел вместе с Комаровским. Оказалось, что последний был у него с утра и между ними произошло полное примирение. Впоследствии они неоднократно бывали друг у друга, и их отношения окончательно наладились. Тем не менее Комаровский всегда старался как-нибудь поддеть Гумилева и иронизировал над его менторским тоном. От портрета Н. С. он был в полном востроге и говорил:
— Он вот таким и должен быть со своей вытянутой жирафьей шеей.
Шея изысканного жирафа…
Дружба эта, впрочем, всегда была довольно странной — о, мягко говоря, неоднозначных отношениях между Гумилевым и Комаровским свидетельствует вот такая, не слишком добродушная, эпиграмма последнего:
Между диваном и софою
Когда на кресла с вами я сажусь,
Мы как товарищ — гусь с свиньею.
Не удивляйтесь: вы не гусь.
Комаровский был поэтом, прозаиком и искусствоведом. Его «Таблица главных живописцев Европы с 1200 по 1800 год» была высоко оценена специалистами. Из его прозаических сочинений сохранился один рассказ Sabinula — странное для своей эпохи, какое-то «постмодернистское» сочинение, стилизация ренессансной подделки античного текста. В этом человеке жил мистификатор того типа, который расцвел именно в XX столетии. Он сочинял изобилующие мельчайшими бытовыми подробностями стихи о своем путешествии в Италию — путешествии, которого не было, которое он лишь надеялся когда-нибудь совершить, если здоровье позволит.
Николай Гумилев. Портрет работы О. Л. Делла-Вос-Кардовской, 1908 год
Единственную книгу стихов Комаровского, «Первая пристань» (1913), Гумилев отрецензировал в «Аполлоне» сдержанно хвалебно. Ахматовой он говорил в те годы, что это он «научил Васю писать — до этого его стихи были какие-то четвероногие», а у самого Комаровского допытывался: «К чьей же школе вы все-таки принадлежите — к моей или Бунина?» Но спустя несколько лет после выхода «Первой пристани» и смерти ее автора градус отношения Гумилева к полузабытому уже на тот момент царскоселу резко изменился. Гумилев читал его стихи своим студистам, а в 1921 году, за несколько месяцев до гибели, в разговоре с Адамовичем утверждал, что «единственный подлинно великий поэт среди символистов — Комаровский. Теперь, наконец, он это понял и хочет написать о Комаровском большую статью». В том же разговоре Гумилев — впервые в жизни! — отрекся от любви к Анненскому: «он поэт «раздутый» и незначительный, а главное — неврастеник». Но ведь в свое время именно Гумилевым в огромной степени была создана репутация Анненского!
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева"
Книги похожие на "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева"
Отзывы читателей о книге "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева", комментарии и мнения людей о произведении.