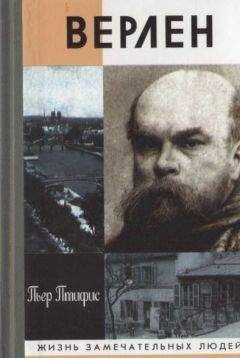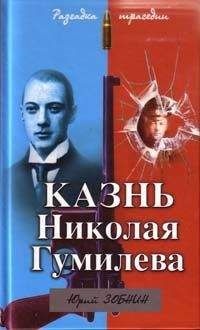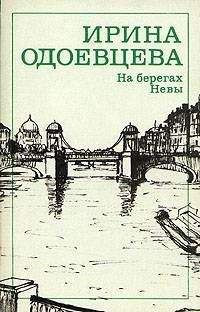Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева"
Описание и краткое содержание "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева" читать бесплатно онлайн.
Книга представляет собой подробную документальную биографию одного из крупнейших русских поэтов, чья жизнь стала легендой, а стихи — одним из вершинных событий Серебряного века. Образ Гумилева дан в широком контексте эпохи и страны: на страницах книги читатель найдет и описание системы гимназического образования в России, и колоритные детали абиссинской истории, малоизвестные события Первой мировой войны и подробности биографий парижских оккультистов, стихи полузабытых поэтов и газетную рекламу столетней давности. Книга беспрецедентна по охвату документального материала; автор анализирует многочисленные воспоминания и отзывы современников Гумилева (в том числе неопубликованные), письма и дневники. В книге помещено более двухсот архивных фотографий, многие из которых публикуются впервые, в приложении — подборка стихотворных откликов на смерть Гумилева.
Валерий Брюсов, 1900-е
Надо сказать, что «Весы» были не первым изданием, отражавшим вкусы и идеи «декадентов». Но, скажем, журнал «Северный вестник» Л. Я. Гуревич (дочери директора гимназии) и Акима Волынского, выходивший в 1891–1898 годы, и недолговечный «Новый путь», издававшийся в 1903–1904 годы Мережковским, Гиппиус и Дмитрием Философовым, ориентировались скорее на «новое религиозное сознание» и «новый идеализм», а не на новое искусство. Рядом со статьями Мережковского, Минского, Волынского, со стихами Бальмонта и переводами из Верлена в «Северном вестнике» печаталась кондовая народническая проза Мамина-Сибиряка и Эртеля. «Мир искусства», выходивший в 1897–1904 годы, был по определению далек от литературы. Поэтому по крайней мере в 1904–1905 годы конкурентов у «Весов» не было.
«Весы» (до конца 1905-го) были чисто теоретическим изданием и состояли из двух разделов: в первом печатались концептуальные статьи, во втором — хроника и рецензии. С художественными произведениями писателей-символистов можно было познакомиться на страницах альманаха «Северные цветы», издававшегося принадлежавшим Полякову же издательством «Скорпион». Подписчикам «Весов» выпуски «Северных цветов» доставлялись за половинную цену (три рубля вместо шести). В том же «Скорпионе» выходили книги символистов — поэтов и прозаиков.
Список сотрудников «Весов» включал почти все имена, обозначившие себя в «новом искусстве» к тому времени, — Бальмонт, Балтрушайтис, Макс (sic) Волошин, Вячеслав Иванов, Мережковский, Минский, Перцов, Розанов, Сологуб… Малоизвестные пока что Блок и Ремизов допускались лишь к ведению хроники. Хозяин журнала оставлял за собой отдел языковедения. Характерной данью времени были отделы теософии, эзотеризма и спиритизма (последний вел А. Миропольский, один из сподвижников Брюсова в середине 1890-х, когда русский символизм делал первые шаги).
В преамбуле к первому же номеру «Весы» прямо формулировали свое направление:
«Весы» убеждены, что «новое искусство» — крайняя точка, которую достигло на своем пути человечество, что именно в «новом искусстве» сосредоточены все лучшие силы духовной жизни земли, что, минуя его, нет другого пути вперед, к новым, еще высшим идеалам.
То, что называлось тогда «новым искусством», для нас имеет название более точное и емкое — модернизм. Это был фундаментальный сдвиг всей западной культуры, переосмысливший и, казалось, снявший еще вчера «роковые» и «проклятые» вопросы — например, спор чистого и ангажированного художественного творчества. Первый номер «Весов» открывался статьей Брюсова «Ключи тайн», посвященной предназначению искусства. Брюсов, естественно, издевается над утилитаристскими теориями («В повести Марка Твена о принце и нищем бедный Том, попав во дворец, пользуется государственной печатью для того, чтобы колоть ею орехи. Может быть, Том колол орехи очень удачно, но все же назначение государственной печати — иное»), однако не соглашается и с их оппонентами («Искусство во имя бесцельной Красоты (с большой буквы) — мертвое искусство»). Модернизм, как кажется его адепту, освободил искусство, и «теперь оно сознательно предается своему высшему назначению: быть познанием мира, вне рассудочных форм, вне мышления по причинности». Во втором номере журнала напечатана статья Вячеслава Иванова про пушкинское стихотворение «Поэт и чернь»: «Трагичен этот хор — «чернь», требующий у поэта духовного хлеба. Трагичен и гений, которому нечего дать его обступившим… Символизм должен примирить поэта и чернь в большом всенародном искусстве». Но спустя несколько лет «старинный спор» возобновится с прежней силой — слишком по-разному понимали сами авторы «Весов» сущность этого нового познания; мечта Иванова о «большом всенародном искусстве», о массовой синтетической мистерии Брюсову останется чужда.
Идет десятилетие, которое французы назовут belle époque. Прекрасная эпоха закончится выстрелом в Сараеве. Похмелье будет страшным… Но пока что мир, открывающийся перед человеком и перед культурой, способен был опьянить самых трезвых. Да и сегодня, сто лет спустя, перелистывая «Весы», испытываешь волнение и зависть — хотя бы при виде рецензии на книгу начинающего немецкого поэта Р.-М. Рильке Der Buch der Bilder («Молодой автор примыкает к кругу Гофмансталя и Стефана Георге, хотя уступает им в смысле внутреннего самоопределения и в смысле техники стиха» — следующей книгой Рильке будет «Часослов», написанный под влиянием поездки в Россию и проникнутый русскими образами)… Или корреспонденции молодого поэта Александра Блока о выставке, где выделяются картины молодого художника Кандинского. Счастье быть 17-летним в такие времена.
«Весы» старались, что называется, держать руку на пульсе эпохи — и публиковали все, что не укладывалось в плоский, двухмерный мир среднеинтеллигентского сознания надсоновской эпохи. С одной стороны — Василий Розанов, чей стиль и идеи Гумилеву никогда не будут близки («Неряшливый, а иногда и нарочно изломанный, обывательский язык, испещренный всякими надоедливыми кавычками…» — слова, переданные Голлербахом; хотя, по свидетельству Адамовича, Гумилев нехотя признавал Розанова «писателем полугениальным»). С другой — положим, Николай Федоров, чьи утопические построения еще меньше должны были бы привлекать Гумилева. Но трудно поверить, что тот прошел мимо статьи Федорова «О письменах», напечатанной посмертно в пятом номере «Весов». Философ говорит здесь о том, что буквы — «графическое изображение духа времени», что скоропись и стенография — свидетельства упадка человеческой культуры, это касается и восточного идеографического письма. Это уже от духовного мира Гумилева не так далеко.
Но прежде всего его должны были заинтересовать статьи чисто литературные. Сведения о французском символизме читатели «Весов» получали из первых рук: о мельчайших подробностях развития французской поэзии, о тончайших деталях полемики между разными течениями в ней рассказывал на страницах «Весов» один из главных мэтров французского символизма — Рене Гиль. Бальмонт, недавний кумир Гумилева, писал о другом его недавнем кумире — Оскаре Уайльде и, между прочим, описывал свою встречу с автором «Портрета Дориана Грея» на парижской улице вскоре после его выхода из Редингской тюрьмы:
Похожий как бы на изваяние, которому дали власть сойти с пьедестала и двигаться, с большими глазами, с крупными выразительными чертами лица, усталой походкой шел один — казалось, никого не замечая. Он смотрел несколько выше идущих людей, — не на небо, нет, — но вдаль, прямо перед собой, и несколько выше людей. Так мог бы смотреть осужденный, который спокойно идет в неизвестное.
Эта статья напечатана в первом номере «Весов» за 1904-й. Год спустя, в третьем номере за 1905-й, публикуется первый русский перевод уайльдовской «Исповеди» (De profundis), выполненный женой Бальмонта — Е. Андреевой. Перевод был неполным и несовершенным, но Гумилев, по существующим свидетельствам, был глубоко взволнован прочитанным. Что вычитал он из этого странного текста гордого, нервного и сентиментального человека, даже в страдании своем остававшегося эстетом? «История каждой личности есть мировая история или может стать таковою». Мы никогда не узнаем, вспоминал ли он эти, написанные в тюремной камере строки, сам оказавшись в тюрьме — шестнадцать лет спустя. Времена изменились: в застенки попадали по другим причинам, и выхода из них часто не было.
Гумилев читал статьи Вячеслава Иванова и Андрея Белого («Об Апокалипсисе в русской поэзии»), бесчисленные рецензии Брюсова и нового, молодого и задиристого критика «Весов» — Бориса Садовского. Это была его новая школа, и здесь он учился прилежнее, чем в гимназиях. Несмотря на разрыв с символизмом, «картина мира», сформированная «Весами», будет давать о себе знать до конца жизни. Цитируя Голлербаха:
Знаете, — говорил он, — еще недавно было два рода критиков: одни пили водочку, пели Gaudeamus igitur и презирали французский язык, другие читали Малларме, Метерлинка, Верлена и ненавидели первых за грязное белье и невежество. Так вот, честные народники — просто навоз, сейчас никому не нужный, а из якобы «прогнивших декадентов» вышла вся современная литература.
Может быть, мемуарист несколько упрощает мысль, но суть несомненна: Гумилев ощущал себя солдатом (и победителем) битвы, которую вели «Весы» и «Скорпион» против «честных народников». Знал бы он, какой реванш вскоре возьмет «никому не нужный навоз»!
Надо сказать, что сами «Весы» были поначалу весьма корректны по отношению к идеалам и идолам русской интеллигенции. Они тактично воздерживались от оценки тюремных стихов Николая Морозова (с уважением отзываясь об их авторе), они восхищались мастерством Репина, сравнивая его с Франсом Хальсом, и лишь иронизировали над его потугами писать картины на фантастические сюжеты и натуралистической трактовкой этих сюжетов. Андрей Белый почтил уважительным некрологом вождя позитивизма Герберта Спенсера. О художественном мастерстве Некрасова «Весы» всегда отзывались с глубочайшим пиететом. Чехову в течение первых двух лет выхода журнала были посвящены две большие восторженные статьи: в нем (как и в Достоевском) символисты склонны были видеть одного из своих учителей. Впрочем, «Весы» претендовали на преемственность по отношению ко всей русской литературе XIX века: не случайна старательность, с которой журнал отмечал юбилеи самых разных писателей — Тютчева, Каролины Павловой, «сперва незаслуженно превознесенного, а затем незаслуженно забытого» Нестора Кукольника. Именно эти претензии «декадентов» на статус нового мейнстрима, игнорирование прежних оппозиций и иерархий и вызывали бешенство оппонентов. Когда реакционные эстеты старого закала нападали пусть хоть на самого Белинского, это соответствовало их статусу и роли. Но добродушная снисходительность, с которой молодой эстет Садовской писал о Неистовом Виссарионе («Простодушный, не слишком образованный, но от природы умный и чуткий писатель»), была кощунством, не знающим аналогий. Какой-нибудь честный народник еще мог бы пережить хулу на поэта-революционера Огарева, но не такие (брюсовские) похвалы ему: «Пафос поэзии Огарева — бессмысленность всех надежд и безысходность всех путей. Никто лучше его не выразил весь позор человеческого чувства, бессильного, бескрылого, мгновенного». Это решительно сбивало с толку и разрушало привычное представление о мире.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева"
Книги похожие на "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валерий Шубинский - Зодчий. Жизнь Николая Гумилева"
Отзывы читателей о книге "Зодчий. Жизнь Николая Гумилева", комментарии и мнения людей о произведении.