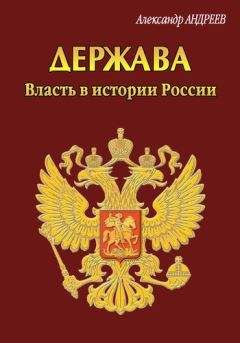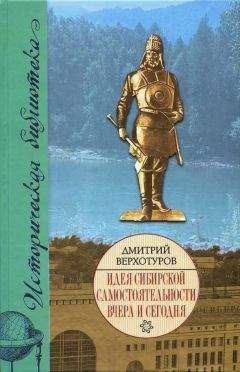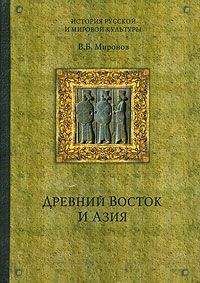Арно Леклерк - Русское влияние в Евразии. Геополитическая история от становления государства до времен Путина
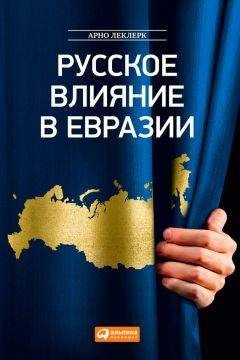
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русское влияние в Евразии. Геополитическая история от становления государства до времен Путина"
Описание и краткое содержание "Русское влияние в Евразии. Геополитическая история от становления государства до времен Путина" читать бесплатно онлайн.
Автор этой книги, Арно Леклерк, управленец, финансист и специалист по геополитике, поднимает крайне актуальные для российского общества вопросы. После двух десятилетий забвения со стороны политической и экономической российской элиты азиатская часть России, к которой относятся Западная и Восточная Сибирь и Дальний Восток, вновь возвращается в игру. Так стоит ли принимать в расчет близкую к закату западную часть континента, когда всеми своими огнями уже засиял Восток? Не более ли интересна китайская модель, представляющая собой смесь государственного авторитаризма и рыночной экономики, чем, например, Евросоюз, переживающий кризис своего существования? Поворот в сторону Востока, оценка значимости азиатской составляющей и развитие Сибири как приоритетное направление внутренней политики имеют долгую историю. Может ли российская держава претендовать на то, чтобы называться азиатской страной? Пристало ли этому развитому и упрочившему свое положение в Европе государству стремиться в противоположную часть света? Что в целом представляет собой Дальневосточная Россия – часть приглашенной в Азию Европы или самоценную надежду Евразии? Принимая в расчет оба измерения России – европейское и азиатское, Арно Леклерк анализирует потенциал и риски, связанные с этой двойственностью, и помогает нам постичь вновь открывающуюся перспективу.
Если Александра I в 1814 г. назвали освободителем Европы, то Николай I оказался ее «жандармом», несмотря на то что он никогда не разделял те надежды, которыми руководствовался его брат, создавая Священный союз. Он был встревожен июльской парижской революцией 1830 г., однако в конце концов решил, что Луи-Филипп – это лучше, чем Республика, и твердость англичан в решении бельгийского вопроса укрепила его в этом мнении. Все меняется, когда в ноябре 1830 г. начинается польское восстание, которое заставляет русские войска уйти из Варшавы; в сентябре 1831 г. они вернут город обратно. Польская конституция упраздняется, а сама Польша превращается в простую автономию внутри государства, которую объявляют неотъемлемой частью империи. В 1849 г. 150-тысячная русская армия подавляет венгерское восстание, обращенное против монархии Габсбургов, после этого европейцы приписывают России роль карающей руки контрреволюции, подозревая ее – особенно эти подозрения были сильны у англичан – в желании приблизиться к турецким проливам и Балканам, все более угрожая «больному» Осману. Когда турки, кажется, были готовы сдаться, проиграв в 1853 г. сражение в Черном море, вторжение французско-британских войск в Крым, несмотря на сопротивление севастопольского гарнизона, длившееся почти год, развеивает иллюзию непобедимости русской армии, за сорок лет до этого разгромившей Наполеона. Смерть Николая I в феврале 1855 г. и поражение от французско-английского альянса, заставившие Россию пойти на неизбежные уступки, вновь, по завершении периода правления, длившегося тридцать лет, поставили вопрос о необходимости реформ, отныне воспринимаемых как неизбежность.
Астольф Луи, маркиз де Кюстин (1790–1857), будучи сторонним наблюдателем, без сомнения, внес наибольший вклад в формирование в 1840-х гг. представлений о России как об определенном примере для двух европейских поколений, разделяющих либеральные идеи, носителей парламентских взглядов и национальных надежд. Его мнение по поводу России выражено знаменитой фразой: «Я спрашиваю себя, что должен был сделать Богу человек, чтобы шестьдесят миллионов его собратьев были приговорены жить в России». Сын Филиппа де Кюстина и Дельфины де Сабран, этот аристократ ненавидел революцию, отправившую на эшафот его отца и деда; Шатобриан – в то время любовник его матери – будучи его воспитателем, находился рядом с ним все его детские годы, проведенные в уединении фервакского замка в Нормандии. Затем Кюстин уезжает в Европу, чтобы притягивать к себе несчастья. Его молодая жена умирает при родах, а через год он теряет сына, которого она родила. В эпоху Реставрации он уличается в гомосексуальной связи, спровоцировавшей скандал, из-за которого ему пришлось отправиться в изгнание. Его литературные опыты оказываются неудачными, а публикация «Испании Фердинанда VII» происходит с большим опозданием, в 1838 г.: в это время страна, о которой он пишет, сменила государя и погрузилась в гражданскую войну. Наконец, его «Письма о России», опубликованные в 1843 г. под заголовком «Россия в 1839 году», принесут ему славу. «Письма» имели невероятный успех и в промежуток с 1843 по 1855 г. переиздавались без сокращений по крайней мере девятнадцать раз: двенадцать раз на французском языке (из них шесть раз нелегально опубликованы в Бельгии), трижды – на немецком, трижды – на английском и один раз – на датском. В свидетельствах о России, оставленных нам Кюстином, наиболее невероятным кажется то, что он показал общество, людей, власть очень непохожими на тех, которых ожидали увидеть. Происходя из аристократии, сохранившей связи с эмиграцией, этот ультраправый ниспровергатель французской революции и ненавистник представительных форм правления бросит исполненный критики взгляд на ту страну, с которой в Европе того времени все связывали ностальгию по прежним монархиям. Споря с тем, что «дисциплина военного лагеря заменена на городской порядок и осадное положение стало естественным состоянием общества», он в конце концов утверждает, что, «побывав в России, чтобы найти там аргументы против представительной формы правления», он превратился в «сторонника конституции». Как пишет Пьер Нора в предисловии к «Письмам о России»[63], «от приверженности самодержавию естественным образом – в либеральные аристократы». Сумма формулировок оборачивается – правда, без вызова – осуждением деспотизма, отличавшего манеру Николая I править своим народом. Безусловно, Кюстин касается и того, что может ожидать огромную империю в будущем: «У этой страны, с которой прежде не считались, возможно, более блестящее будущее, чем у английских общин, населяющих американскую землю». Подобное суждение несколькими годами раньше высказал Токвиль в «Американской демократии», пророчествуя, что «оба великих народа, русские и американцы, разделили судьбу своей половины мира каждый». Тем не менее текст Кюстина не отличает абсолютное неприятие той России, которую Бальзак советовал посетить и где его слава обеспечила ему хороший прием. Он осуждает «угнетение под видом любви к порядку, который обходится слишком дорого, чтобы я мог относиться к нему с восхищением». В равной мере он нападает на «льстивое дворянство», «из всего делающее секреты» и «настолько фанатично преданное, что оно часто путает ужасающие добродетели своих хозяев с благотворной силой их святых покровителей и оправдывает жестокости Истории требованиями веры». В этом обществе «никакое счастье невозможно потому, что там недостает свободы… то есть самой жизни». Он видит в русских общество людей, приговоренное ко всеобщей лжи, ибо «говорить правду означало бы разрушить государство», и манипулированию историей, «поскольку хозяину угодно исправлять факты». Точно так же он отмечает враждебность системы по отношению к иностранным наблюдателям, иначе «власть на протяжении двадцати лет не сопротивлялась бы выстраиванию отношений с Западом» в стране «автоматов», «где нет посредника между тираном и рабом». Согласно его мнению, подобная одиозная система – носитель имперского духа, «который может дать всходы только в душах угнетенных и питать лишь несчастья целой нации, алчной в силу постоянных лишений и желающей искупить свои унизительные лишения надеждой навязать свою тиранию другим». Глаза этого путешественника не находят в «этой империи глухой тишины, огромных пустых пространств, голых селений, уединенных городов, осторожных лиц с тщательно скрываемыми выражениями, того, что заставляет считать пустым и общество как таковое». Диагноз однозначен: «Разве я виноват, что решился узнать у монарха, какие новые аргументы могут быть выдвинуты против нашего деспотизма, против беспорядка во имя свободы. Я был всего лишь поражен злоупотреблениями монархии… Уехав из Франции, напуганный злоупотреблениями лживой свободы, я возвращаюсь в свою страну, считая, что представительная форма правления, если рассуждать логически, не самая нравственная. Однако на практике она мудрее и умереннее, особенно когда мы видим, как, с одной стороны, она защищает народы от жестокостей демократии, а с другой – от наиболее вопиющих злоупотреблений деспотизма… И мы спрашиваем себя, а не стоит ли нам оставить все разговоры по поводу антипатии, которую она у нас вызывает, и, забыв про жалобы, воспринимать ее как ту политическую необходимость, что в конце концов приносит нациям, готовым принять ее, больше блага, чем вреда».
Успех книги «Россия в 1839 году» превзошел все ожидания: во Франции и за ее пределами с момента первого издания были напечатаны и проданы почти двести тысяч экземпляров; и мы вправе задаться вопросом о причинах успеха этого труда, изданного в удачный момент и принесшего своему автору всеобщее признание. Свидетельство де Кюстина появляется именно в то время, когда в Европе все сильнее дает о себе знать определенное чувство. После 1815 г. Россию воспринимают как победительницу Наполеона и лидера Священного союза, превозносимого восстановленными спустя четверть века войн в Европе монархиями. Подобное отношение характерно и для французской элиты периода бурбонской Реставрации, несмотря на то что простой народ сохранил недобрую память о казаках в Париже в 1814 г., а Ж.-Б. Май («Санкт-Петербург и Россия в 1829 г.») датой, указанной в заглавии книги, предназначавшейся для просвещенной буржуазии, обозначил год, когда в России начинается рост деспотизма. Страж порядка, николаевская империя вопреки «политике конгрессов», столь милой сердцу Шатобриана, предпринимает попытки задушить любые ростки либеральных революций. От ее европеизированной элиты ждут, что она направит страну к прогрессу, схожему с тем, которым отмечен век Просвещения в Западной Европе.
Надо было дождаться отмены крепостного права, произошедшей в 1861 г. благодаря царю-реформатору Александру II, и публикации позднее, в 1881 г., книги Анатоля Леруа-Болье «Империя царей и русские», дабы имидж Российской империи медленно начал меняться. Это способствовало неожиданному заключению в 1891–1893 гг. альянса, позволившего Французской республике, родившейся из поражения в войне 1870–1871 гг., выйти из полной изоляции, в которой она с тех пор пребывала. В ту же самую эпоху писатель и дипломат Эжен Мельхиор де Вогюэ публикует в 1886 г. очерк «Русский роман», способствовавший новому росту интереса к русской культуре, благоприятствовавшего появлению в обществе новых представлений о России. Запрещенный в царской России труд де Кюстина будет переиздан в 1930 г., в советское время, поскольку тогдашние управленцы найдут там вызов, брошенный царскому режиму. Будучи убежденным в том, что единственная альтернатива российскому деспотизму заключается только в революционном перевороте, де Кюстин пророчествовал: «Или цивилизованный мир вновь через пятьдесят лет окажется под игом варваров, или Россия переживет революцию – более ужасную, чем та, последствия которой все еще ощущает Запад». Парадоксально, но его труд, благополучно забытый в первой половине XIX в., обретает новое дыхание в годы холодной войны. Джордж Кеннан – один из авторов этого термина – будет даже утверждать в своей работе «Маркиз де Кюстин и его «Россия в 1839 году»[64], что «если это и не очень хорошая книга о России в 1839 г., то в любом случае это превосходная книга о сталинской России, без сомнения, лучшая из всех, и отчасти книга о времени правления Брежнева и Косыгина». Подобную оценку книге маркиза дает и Анри Масси в предисловии к очередному изданию 1946 г. Русские, критически отозвавшиеся о книге, особенно славянофилы, среди которых был и Достоевский, без какого-либо труда указали на недостатки свидетельств, представленных де Кюстином. Он приписывает Православной церкви «помощь полиции с целью обмануть народ», приводит свидетельства очевидцев, а Мишель Кадо[65] даже подозревает де Кюстина в том, что его использует тайное либеральное общество, старающееся приписать иностранцу собственные представления о России. Прежде бывший путешественником по миру, нежели пристрастным исследователем, наш автор часто бывает при дворе в Санкт-Петербурге, посещает Москву, добирается до Ярославля, Нижнего Новгорода и Владимира, однако повсюду на своем пути встречается только с аристократами. Он не знает о существовании большинства губерний, ему ничего не известно о движении славянофилов, и он совершенно не общается с представителями простого народа, чью культуру он замечательным образом отрицает, слишком поспешно посчитав народ обыкновенной массой рабов. Действительно, в описании маркизом николаевской России есть карикатурные черты, однако оно надолго определит то, какой будут представлять царскую империю французы и Европа; не стоит забывать о «новой актуализации» этого представления в годы холодной войны. Невероятно, однако это так: находясь в оппозиции к современной России, Запад в своем коллективном бессознательном часто воспроизводит размышления маркиза де Кюстина.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русское влияние в Евразии. Геополитическая история от становления государства до времен Путина"
Книги похожие на "Русское влияние в Евразии. Геополитическая история от становления государства до времен Путина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Арно Леклерк - Русское влияние в Евразии. Геополитическая история от становления государства до времен Путина"
Отзывы читателей о книге "Русское влияние в Евразии. Геополитическая история от становления государства до времен Путина", комментарии и мнения людей о произведении.