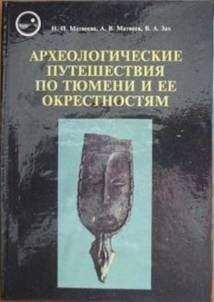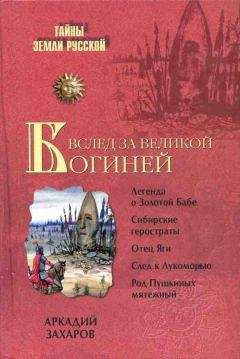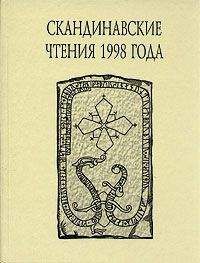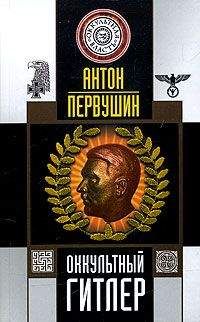Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера"
Описание и краткое содержание "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера" читать бесплатно онлайн.
Книга профессора Калифорнийского университета в Беркли Юрия Слёзкина, автора уже изданного в «НЛО» интеллектуального бестселлера «Эра Меркурия: Евреи в современном мире» (2005), посвящена загадке культурной чуждости. На протяжении нескольких веков власть, наука и литература вновь и вновь открывали, истолковывали и пытались изменить жизнь коренных народов Севера. Эти столкновения не проходили бесследно для представлений русских/россиян о самих себе, о цивилизации, о человечестве. Отображавшиеся в «арктических зеркалах» русского самосознания фигуры — иноземец, иноверец, инородец, нацмен, первобытный коммунист, последний абориген — предстают в книге продуктом сложного взаимодействия, не сводимого к клише колониального господства и эксплуатации.
Они… настолько малочисленны, настолько разбросаны на громадных территориях, настолько низко стоят на лестнице культуры и, наконец, благодаря географическим условиям, находятся в обстановке стать неблагоприятной для общения, как между собою, так и с более культурным населением, что, несмотря на свою самобытность, до национального сознания подняться не могли и едва ли когда-либо дойдут до него{518}.
Даже если коренные северяне были известны лучше, чем когда бы то ни было, они мало что значили как часть империи и не имели прямого отношения к «проклятым вопросам», над которыми бились политики и интеллектуалы. У них не было даже истории: в глазах большинства покорение Сибири завершилось «разгромом Кучума от рук Ермака», за которым последовали мрачные годы ссылки и драматическая эпопея крестьянского переселения. (М.И. Венюков сетовал, что образованная публика знает имена испанских и португальских конкистадоров, но никогда не слышала о великих русских землепроходцах{519}.) Даже Дерсу Узала не был «последним из гольдов»: он символизировал гибель высшей нравственности, а не вымирание туземного племени (племя как таковое не представлено в книге). Единственная серьезная попытка мифотворчества вокруг Арктики окончилась крахом: не успела новорожденная сибирская интеллигенция воспеть «вольно-народную колонизацию» и сформулировать проблему коренного населения, как ее почти полностью поглотил мир ссыльных — точно так же, как прежние «вольные колонисты» были вытеснены волной новой иммиграции. Когда они не отбывали ссылку и не бродили по тундре в поисках неиспорченного русского крестьянина, большинство русских интеллектуалов жило в мире, который состоял го России и Запада, и даже те, кто примерял на себя роль скифов или туранцев, делал это, чтобы напугать или наказать Запад, а не для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на «азиатов»{520}. Внутри самой России они видели себя в трагическом или героическом положении между извечно противоположными друг другу государством и «народом». Их роль, вина и ответственность осмыслялись в рамках этого российского — но не имперского — противостояния. Среди обвинений, которые они предъявляли режиму, почти никогда не было колониализма или империализма. Затяжная война на Кавказе, завоевание Средней Азии, русификация Украины и «вымирание северных племен» так никогда и не стали широко обсуждавшимися моральными проблемами[54]. Как писал Ядринцев, «централисты-бюрократы сменяются централистами-культуртрегерами, централистами, идущими в народ, централистами-якобинцами и т.д.»{521}. Однако к началу XX в. о добродетелях периферии и нерусского национализма стали громко заявлять все более напористые этнические элиты. Северные инородцы оставались без собственного представительства — пока новый революционный режим не призвал бывших ссыльных выполнить эту задачу.
Глава 5.
ОСВОБОЖДЕННЫЕ
В каждой перемене, даже самой желанной, есть своя грусть.
Анатоль Франс. Преступление Сильвестра Боннара[55]Народный комиссариат по делам национальностей и племена северных окраин
Бродячие инородцы не смогли уклониться от участия в русской революции. Народы Приамурья оказались в центре войны, тянувшейся еще долго после того, как Врангель оставил Крым: казачий атаман Семенов объявил всеобщую мобилизацию среди тунгусов; белый командир Бочкарев призвал на военную службу погонщиков собачьих упряжек Охотского побережья; а отряды красных партизан «добыли» у нанайцев 670 винтовок, 779 килограмм пороха, 571 килограмм дроби, 1518 лодок, 1188 лошадей и 1489 собачьих упряжек{522}. Даже после восстановления государственной власти сибирские и центральные должностные лица продолжали получать отчеты «об убийствах, грабежах и прочих преступлениях, совершаемых милицией и воинскими частями в инородческом районе»{523}. В отсутствие реальных правовых преград тысячи русских крестьян, страдавших от земельного голода и просто от голода, вторгались на традиционно инородческие территории, охотились круглый год, грабили охотничьи припасы, воровали пушных зверей из капканов и без разбору убивали диких и домашних северных оленей. На реке Чуне даже поджог леса не спас местных эвенков от вторжения крестьян с Ангары{524}.
Торговля в большинстве районов прекратилась почти полностью. Арктическая и субарктическая зоны были отрезаны от остальных территорий страны, а различные группы коренного населения были отрезаны друг от друга. Не было ружей, пороха, дроби, сетей, котелков, муки, растительного масла и сахара{525}. Больше не проводилось ярмарок: кочевники ушли далеко в тундру и жили за счет своих оленей. Не было стрихнина для защиты от хищников, и тех оленей, которые не были забиты или реквизированы, съели волки. В результате численность оленьих стад, принадлежавших канинским ненцам, чукчам, корякам и северо-восточным эвенам, сократилась на 50%; у саамов и камчатских эвенов — на 70—75%, а у некоторых групп енисейских эвенков — на 90—95%. В Амурской губернии, опустошенной военными действиями, половина эвенков лишилась всех своих оленей{526}. В отсутствие торговых партнеров многие северяне остались без продовольствия и одежды. Лишившись оружия и амуниции, охотники заново изобретали лук и стрелы, а также различные запруды, силки и ловушки. Но всего этого не хватало. По словам одного ханта, «нет пороха, дроби, свинца и пистонов, а без этого инородцу жить нельзя»{527}. С 1918 по 1920 г. добыча беличьих шкурок в Туруханском регионе сократилась с 200 тыс. до 50 тыс.{528}. Во многих районах за голодом и миграцией последовали жестокие эпидемии оспы и тифа{529}.[56]
Установление советского строя означало, что все губернские и некоторые уездные административные посты были заняты приезжими коммунистами из Южной Сибири и Европейской части России, в большинстве своем — бывшими красными командирами. Коренные северяне поразили их своей ужасающей отсталостью и отчаянными условиями жизни. «О какой бы то ни было культуре, даже самой элементарной, у туруханских туземцев и говорить не приходится»{530}. По воспоминаниям одного из двух матросов из Владивостока, которые представляли революцию на Чукотке с 1920 по 1922 г., «конечно, сразу бросалась в глаза отсталость населения»{531}. Чукчи воплощали собой невежество и бедность «старого мира», разрушить который до основанья намеревались два матроса и их товарищи{532}. Одно из первых обращений Камчатского революционного комитета, стилизованное в расчете на детское восприятие коренных жителей, точно отражает мировоззрение коммунистических полпредов:
К вам, жителям тайги и тундры, обращается Камчатский революционный комитет. Были в России плохие люди. Убивали, грабили они многих других людей, хотели от этого разбогатеть. Такие люди были и у нас на Камчатке. Тогда бедный народ собрался, взял ружья и стал прогонять плохих людей. Началась ужасная война. Народ страдал. Товара, муки, чаю, табаку, ружей, пороху стало мало. Пароходы перестали возить товар. Много пролилось крови в то время. Но бедный народ победил плохих. Народ сразу кончил войну. Собрались все трудящиеся люди и создали сильную Советскую республику{533}.
В мире, разделенном на бедный народ и плохих людей, не было сомнений, к какому лагерю принадлежат чукчи и прочие бродячие инородцы. Все они — и каждый из них — были не просто бедными: они были самыми угнетенными и униженными из бедных. Столь же очевидным было то, что плохими людьми являются торговцы — старожилы, новопоселенцы, американцы, китайцы и японцы. Решение казалось ясным, и большинство губернских революционных комитетов, исполнительных комитетов и чрезвычайных комиссий издавали декреты, провозглашавшие полное равенство перед законом (никаких старожилов, казаков или инородцев), национализировавшие имущество крупных купцов и ограничивавшие деятельность мелких торговцев{534}. Тот же Камчатский революционный комитет аннулировал все долги и запретил любую продажу «спирта, водки, одеколона, мухомора (гриб) и прочих крепких и одуряющих средств». Также запрещена была торговля «всякими безделушками и побрякушками, как то: бусы, бубенчики, гармошки и прочее». Все торговцы должны были получить специальные патенты и заверить прейскуранты в милиции или ревкоме. Бели они оказывались в туземном поселении, им следовало предъявить местным должностным лицам свои патенты и прейскуранты и, получив дозволение, приступать к честной и упорядоченной торговле{535}.
Новая политика столкнулась с серьезными проблемами. Во-первых, во многих районах заменить местных купцов было некем. На Крайнем Северо-Востоке собственность крупнейшей в регионе американской компании была торжественно конфискована, а затем, за неимением альтернативы, возвращена прежним владельцам{536}. Кроме того, проведение этой политики предполагало наличие армии единодушных и «сознательных» представителей власти, которые разоблачали бы мошенничество, воспитывали кочевников и защищали бедный народ от плохих людей[57]. Таких представителей власти найти было негде. Те немногие революционеры, которые провозгласили советскую власть на Севере, не очень хотели там оставаться{537}. Как писал старший из двух чукотских матросов своему начальству, «просьба моя о присылке мне заместителя объясняется тяжелыми климатическими условиями уезда и плохим помещением, в котором приходится проводить суровую зиму, продолжающуюся почти целый год. Вы ведь не представляете себе, что такое Чукотский полуостров!.. На будущий год обязательно высылайте заместителя. Не останусь ни за что»{538}. Заместителя не прислали, и он не остался.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера"
Книги похожие на "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Слёзкин - Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера"
Отзывы читателей о книге "Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера", комментарии и мнения людей о произведении.