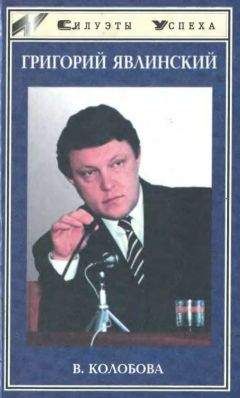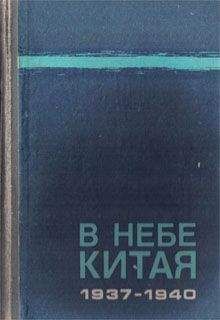Теодор Шумовский - Воспоминания арабиста
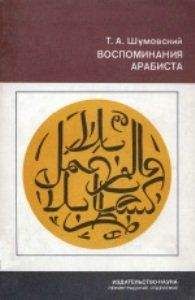
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Воспоминания арабиста"
Описание и краткое содержание "Воспоминания арабиста" читать бесплатно онлайн.
Книга содержит воспоминания о крупнейших советских востоковедах — академиках И. Ю. Крачковском и И. А. Орбели, члене-корреспонденте АН СССР Н. В. Юшманове, заслуженном деятеле науки УССР А. П. Ковалевском и других ученых. Подробно рассказано о творчестве малоизвестного арабского поэта XV в. Аррани. Приведены переводы его стихов.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
«Книга польз в рассуждении основ и правил морской науки». Крупнейшее и, по-видимому, главное сочинение Ахмада ибн Маджида. Да, главное. В прочих его трактатах описываются те или иные навигационные маршруты: фарватер, высота звезд по курсу корабля, ветровой режим, признаки близкой суши. Здесь, в «Пользах», двенадцать глав охватывают более широкий крут вопросов: управление судном и учение о муссонах; лунные станции и величайшие острова мира; роза ветров; побережья мирового океана; знания, требуемые от кормчего, и даже морская этика; а прежде всего излагается история мореходства. Там, в частных лоциях — строгий суховатый язык мастера судовождения, как правило лишенный эмоций. В обширнейшем, почти на двести страниц убористого рукописного текста, сочинении прославленного моряка, наоборот, бесстрастного профессионала часто теснит живой, много переживший и передумавший человек и однообразные описания уступают место игре ярко переливающейся мысли.
«Наука — самец, не отдающий тебе и частицы своей, пока не отдашься ему весь».
Грубовато, но ведь это сказал не кабинетный ученый, а сурово-озорной «морской волк»; приобщение к «непотребной речи» — это часть его платы в казну жизни за возможность зарабатывать средства к существованию тяжелым и опасным трудом на море.
«Знание… подобно оружию в брани, которое нуждается то в луке, то в копье, то в мече, а то и в ноже».
«Науки подобны оружию, которое нуждается то в луке, то в мече, то в копье, то в секире, то в кинжале, а все это не заменит тебе ножа».
Так Ахмад ибн Маджид проповедует разносторонность на только знания самого по себе, но и тех приемов, которыми оно с дальним прицелом или в ближнем бою, замедленным или коротким и точным ударом сражает невежество.
«Кормчий третьего разряда — выше его нет. Он славится неповторимым блистающим указанием и великой сообразительностью, и никакая морская задача для него не тайна. Он слагает своды, которыми пользуется при жизни и коими люди пользуются по его кончине; правдолюб и знаток его благодарят, завистник и спорщик хулят. Завидующие крадут из его сочинений и выставляют себе против него возражение, не будучи в состоянии довести до совершенства то, чем возражают. Такие, как они, подобны вору, залезающему в карманы людей: когда обернутся, он обращается в бегство, терпит поражение. А язык у невежественных разнуздан. Мужи науки! Когда вы достигли наслаждения, присущего знанию и деянию его посредством, то да не будет вам никогда достаточно повергать в смущение невежд завидующих, не достающих до степеней ваших… Люди завидуют лишь тем, кто их превосходит…».
Он, конечно, сам испытал злоключения таланта, о которых пишет; слишком ярки слова и глубока приникающая к ним печаль, слишком отточен внутренней болью сарказм, чтобы это было не так.
Перед нами — энциклопедия мореходных знаний Востока, вобравшая в себя все то, что было известно арабским капитанам дальнего плавания накануне европейской колонизации. И — книга человеческой души, угасшей много веков тому назад.
Не случайно и не напрасно я выделил мыслью это творение из множества трудов моих предшественников, с которыми довелось познакомиться в период изучения трех последних лоций арабского моряка. Теперь, когда три лоции обнародованы, можно — и давно следовало бы! — взяться за прочтение «Книги польз».
«Не уйти вам от арабистики», — писал мне когда-то Крачковский. Да, Игнатий Юлианович, как и вам.
* * *Когда ученый приступает к новому исследованию, он должен сказать себе: Рубикон перейден, дороги назад нет. Он должен идти только вперед, шаг за шагом читая неизвестность и продвигаясь к поставленной цели — приумножить практический или взаимопроникающий с ним исторический опыт своих современников и потомков, обогатить материальный и опять-таки связанный с ним духовный мир общества. Прошли те времена, когда изучение давних рукописей могло быть самоцелью, когда подчас и незаурядные ученые не всегда ясно представляли себе, какую роль будут играть результаты их исследований в жизни людей; определения «академичность» в худшем смысле этого слова, «схоластика», «оторванность от жизни» не придуманы, а отражают частную, но реальность в истории науки. Сейчас исследователь, если он им является, а не лишь состоит по штату, ясно сознает ответственность, и далеко не только перед коллегами, за общественную значимость избранной темы и применимость результатов своего труда.
Однако — такова психология творчества — он прежде всего чувствует ответственность перед самим собой за полное осуществление своего замысла, за раскрытие в этом труде всех своих внутренних возможностей, за исчерпывающее самопроявление. И, раз Рубикон перейден, ничто не может остановить его в этом движении: ни тягостные личные переживания — мы все живые люди и, кроме ума, у нас есть сердце, — ни непонимание, подчас встречаемое в ближайшем окружении. Он ведь и был готов ко всему этому и к худшему, когда впервые склонился над листами давно манившей его рукописи и одновременно с начальными строками будущей книги начал писать новую главу истории своей жизни. И он идет вперед, ломая или обходя препятствия. Но лишь уверенность в том, что ближайшее окружение — это еще далеко не все общество, что его труд нужен или понадобится простым людям, не позволяет опуститься его рукам в часы невзгод и дает возможность довести дело до конца. Общественный интерес — великий двигатель индивидуального творчества. Гениальный художник и скромный ученый одинаково творят для мира.
* * *Не стану касаться подробностей своей многолетней работы над рукописью «Книги польз» — одни из них уже описаны за пределами этих воспоминаний и в них, а о других не сказать словом: внутренняя работа ума — очень деликатная вещь, достаточно неосторожного движения речи, чтобы гармония ее ткани нарушилась и предстала перед читателем не совсем такой, какой она была. Помню, один корреспондент настойчиво выспрашивал:
— Скажите, ну а как, вот как вы расшифровали эту абракадабру географических названий, давно вымерших, никем не употребляемых? Каковы ваши методы, приведите пример…
Я попробовал отшутиться:
— Сам не знаю как. Должно быть, видение такое было. Или — как это сказать? — озарение…
Он не понял шутки и сухо сказал:
— Мы с вами не дети и знаем, что чудес не бывает. При чем тут мистика? Мне надо написать нечто конкретное…
Я с тоской посмотрел на него. Голубчик, я же действительно… Ну, как об этом сказать, чтобы вы не сердились? Ни одна ловкая фраза не приходила в голову, а собеседник ждал. Это было мучительно, и я довольно коряво привел какой-то неинтересный случай отождествления, предельно упростив ход мысли. Человек, чье вечное перо уже летало по блокноту, был доволен.
— Вот видите, можно же рассказать. Все понял. Спасибо.
Когда он ушел, я подумал:
— Конечно, тут дело не в том, что «не знаю как». А дело в том, что уже не помню, да, просто не могу припомнить, каким путем каждый раз мне удавалось доходить до истины. Никаких методов превращения неизвестного в известное я специально не изобретал, и вряд ли это возможно. Понимаете, дорогой корреспондент, в творческом процессе есть свои иррациональности. Ну вот, смотрите, перед нами непонятное географическое название, встретившееся в средневековой рукописи. Сперва кажется: а чего там, пересмотрю словари, да, пожалуй, одного Якута хватит, чтобы найти искомое. Шеститомный словарь восточных географических имен, составленный в тринадцатом веке подвижником науки Шихабаддином Якутом, то есть «Яхонтом», выходцем из рабов, и опубликованный по его рукописи другим подвижником науки, Вюстенфельдом, уже в девятнадцатом веке — это ведь одна из настольных книг арабиста, в ней можно отыскать все нужное… Ан не тут-то было! Всезнающий Якут молчит. В чем дело? Да просто в том, что в поле его зрения, внимания, мысли было одно лишь сухопутье, громадное сухопутье между западным и восточным океанами, а моря он не касался, не знал его и не стремился знать. Вот тебе и достославный Якут, к спасительному словарю которого нам еще с университетских пеленок прививали великое уважение! Что ж, иногда среди арабских текстов попадается enfant terrible,[37] для понимания которого нехватает обычных пособий…
Словарь Якута для расшифровки мореходных текстов не годится. Хорошо. А многотомный Лэн, вобравший в себя богатство арабских национальных словарей, а старый почтенный Фрейтаг, наш Гиргас, а словарь Бэло, Казимирского, Дози? Последний иногда — лишь иногда! — помогает: ведь это «Supplement aux dictionnaires…» — «Дополнение к словарям», прочие в целом бесполезны. Что же нам делать? Обратиться к международному изданию «Энциклопедия ислама», составленному лучшими специалистами разных стран. Тщетно, здесь тоже наши поиски упираются в глухую стену: арабское мореплавание — все еще необычный предмет в науке. Напряжем нашу память и мысль, обрушим на непонятное название какого-то уголка морского мира, затерявшееся в просторах рукописи, шквал знаний и рассуждений. Напрасно, мы не смогли понять, что это такое.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Воспоминания арабиста"
Книги похожие на "Воспоминания арабиста" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Теодор Шумовский - Воспоминания арабиста"
Отзывы читателей о книге "Воспоминания арабиста", комментарии и мнения людей о произведении.