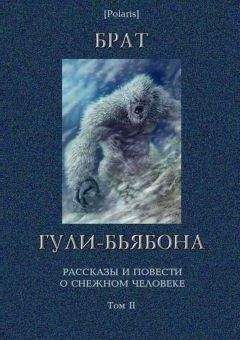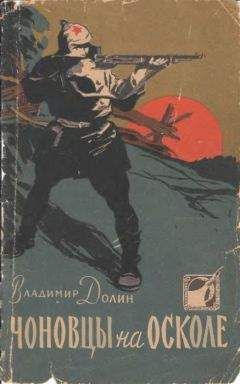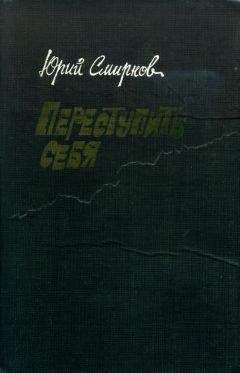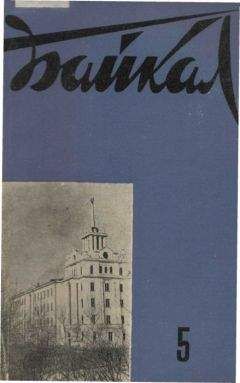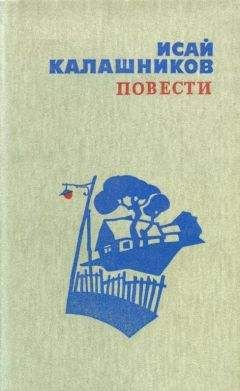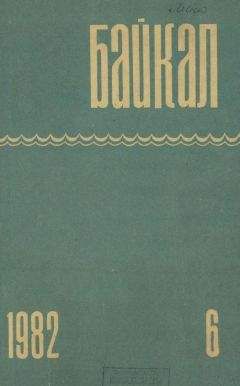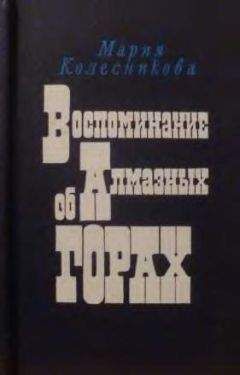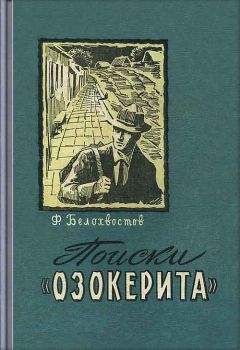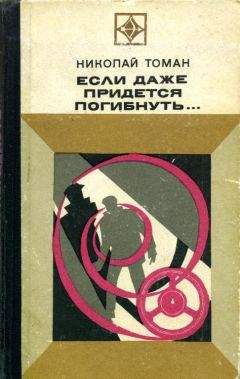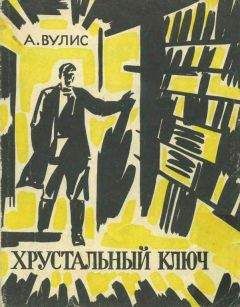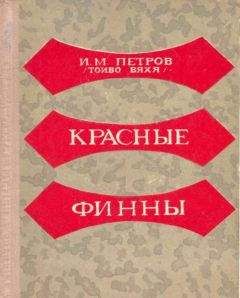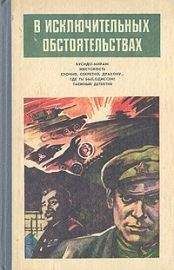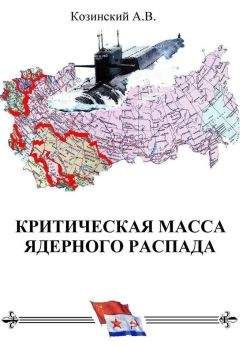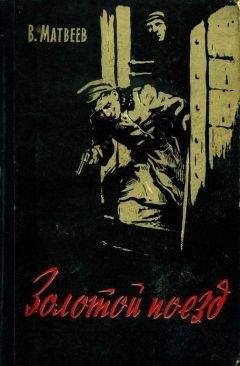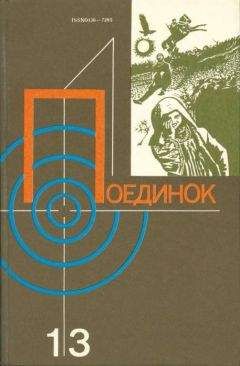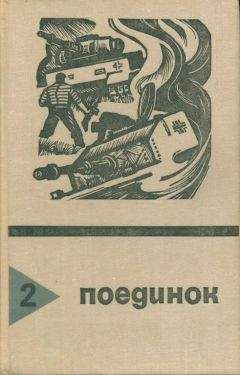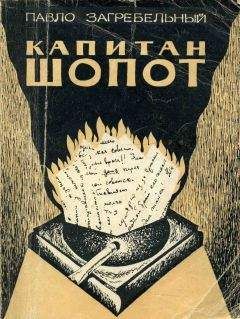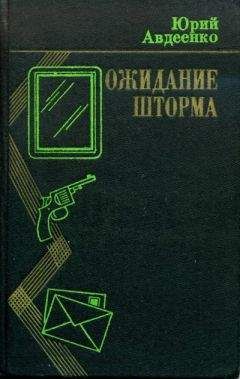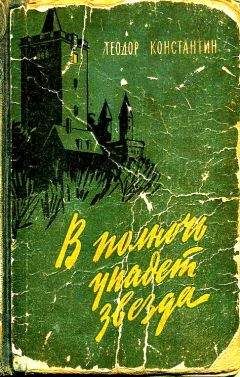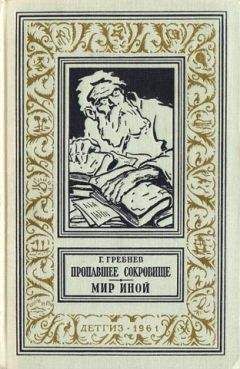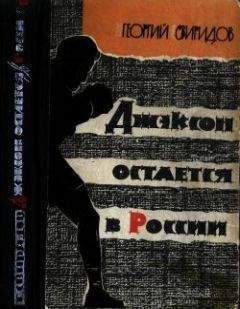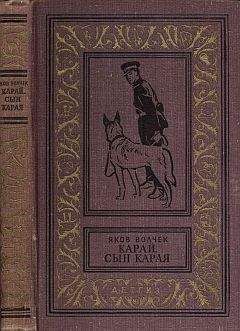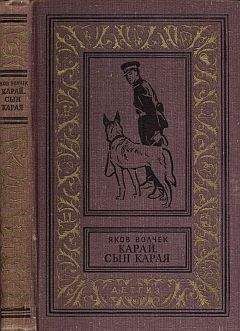Мария Колесникова - Гадание на иероглифах
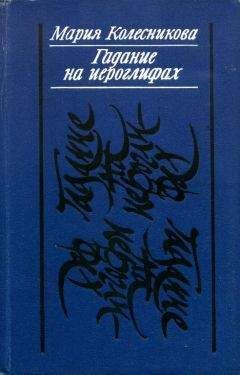
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гадание на иероглифах"
Описание и краткое содержание "Гадание на иероглифах" читать бесплатно онлайн.
Мария Колесникова известна советскому читателю как автор повести «Наш уважаемый слесарь» и книг о Р. Зорге и его соратниках. Новая книга М. Колесниковой объединяет три повести о Дальнем Востоке. В первой повести, давшей название книге, рассказывается о военном крахе Японии и о Международном военном трибунале в Токио над военными преступниками; во второй — «Венец жизни» — автор рассказывает об Анне Клаузен, соратнице Р. Зорге; третья повесть посвящена видному советскому военному деятелю Берзину (Кюзису Петерису), одному из организаторов и руководителей советской разведки. Книга читается с неослабевающим интересом.
И Чан и Мао пытаются столкнуть двух «тигров» — США и СССР. Оба они идут на сознательное обострение военной обстановки.
Я все больше стала задумываться над глубинным смыслом, казалось бы, устоявшихся представлений. Так как интерес к Особому району у меня не угасал, раздобыла брошюру Мао «О коалиционном правительстве», вышедшую в мае сорок пятого года, Раньше я читала другую его работу — «О новой демократии», но тогда мало что поняла из нее. А вот эта брошюра меня сильно озадачила: в ней были такие установки, как отказ от «диктатуры одного класса и монопольного положения одной партии в правительстве». Короче говоря, автор отказывался от главной движущей силы революции — диктатуры пролетариата и от ведущего положения коммунистической партии в коалиционном правительстве. Он обещал сохранение и развитие частнокапиталистического хозяйства. А как же быть с социализмом? Социализм подождет. «Это будет власть союза нескольких демократических классов…» Не социализм, а «новая демократия», иными словами, буржуазно-демократическая республика!
Теперь смысл загадочных слов Го Яня о поездке из прошлого в будущее для меня прояснился. Сюда, в Маньчжурию, переместилось сейчас сердце китайской революции! Вот ключ ко всему.
Размышляла я и о поведении американцев. «Нью-Йорк геральд трибюн» открыто пишет, что политика посла Хэрли в Чунцине представляет собой вмешательство во внутренние дела и поощрение гражданской войны в Китае. Член палаты представителей США негодует по поводу того, что генерал Ведемейер и Хэрли хотят втянуть США в интервенцию. А один из представителей госдепартамента заявляет журналистам, что США могут дополнительно обучить и экипировать девятнадцать гоминьдановских дивизий, сверх уже обученных и экипированных. Янки не стесняются. Они откровенны…
Хэрли все-таки прогнали. В Чунцин прибыл с посредническими целями в качестве личного представителя президента Трумэна начальник штаба армии США Маршалл. Он, глава специальной миссии в Китае, должен участвовать в переговорах между гоминьданом и КПК. Но многим все это представляется политическим маневрированием, и ни у кого нет твердой уверенности, что руководители КПК договорятся с гоминьдановцами. Повсюду дымятся очажки будущей гражданской войны.
Гражданская война… Значит, снова убитые, кровь, развалины жилищ… Зачем? Неужто не навоевались?.. Ведь все зависит от людей, только от самих людей. И не от двоих или троих, не от толстого и тонкого. За толстым и тонким опять же стоит кто-то, жаждущий личной власти, личного могущества. Но неужели так силен субъективный фактор? Да и что он такое — субъективный фактор? Ведь не только воля отдельных личностей? Может быть, его и в расчет принимать не надо, этот субъективный фактор? Но, как я знала еще по институту, субъективный фактор — не только воля личностей, а прежде всего сознательная практическая деятельность людей, классов, политических организаций; сюда относятся и настроения, и намерения, и классовый гнев, и национальные чувства… Разумеется, мне хорошо было известно о том, что решающая роль принадлежит все же объективным условиям. Вот это взаимодействие между сознательной деятельностью людей и объективными условиями было темой постоянных споров в студенческом общежитии. Мы хотели понять, уяснить, разложить все по полкам. Ведь в повседневной жизни изо дня в день мы сталкиваемся с причудливой игрой субъективных факторов. Ну а если рассуждать о высоких материях? Скажем, революционная ситуация? Достаточно ли одной революционной ситуации для начала революции, ее возникновения? И какие факторы обеспечивают победу революции? Профессора терпеливо разъясняли: революционная ситуация суть объективное условие. Но для победы социалистической революции недостаточно только наличия революционной ситуации. Необходимо, чтобы к объективным условиям присоединились субъективные: способность революционного класса к смелой, самоотверженной борьбе, наличие опытной революционной партии, осуществляющей правильное стратегическое и тактическое руководство. И мы невольно приходили к выводу, что роль субъективного фактора подчас настолько велика в развитии общества, что даже при наличии объективных условий победа революции невозможна, пока субъективный фактор не созрел!
Дорогие профессора-эрудиты, где вы? Если бы кто-нибудь из вас был рядом и объяснил мне, почему, к примеру, несмотря на бесчисленные восстания и революции, китайский народ так и не добился окончательной победы? Экономическая отсталость? Может быть.
Но разве мы не помогали Китаю? В самые тяжелые годы для судеб Китайского государства мы предоставляли большие займы, давали современную боевую технику и вооружение, посылали на китайские фронты своих лучших летчиков, и многие из них погибли в боях за независимость Китая. Погибли с глубокой верой в важность своего интернационального долга. Все было, было, и этого не вычеркнешь из истории.
Да, самолеты мы поставляли Китаю в кредит. Людей в кредит не дают: летчики отправлялись в Китай добровольно. Они дрались за китайскую землю, как за свою собственную. Они верили в конечное торжество китайской революции, в наше братство…
Объективные условия, как мне казалось, теперь налицо. Ну, а что касается субъективного фактора, то хотелось бы иметь «магический кристалл», чтобы сквозь него увидеть будущее Китая.
Меня терзало сознание собственной интеллектуальной ограниченности, неумение раскладывать факты по логическим ящичкам-полочкам. Рассуждая о политике, по-прежнему лишь «гадала на иероглифах».
У многих китайцев очень крепка связь между поколениями и историческими эпохами. Они одной ногой прочно стоят в своих древнейших эпохах, всех этих трудно запоминаемых царствах и империях — Цинь, Хань, Вэй, Шу, У, Цзинь — и несть им числа. Они убеждены в том, что все, что было в отдаленные времена, повторяется в наше время, воспроизводя одновременно сущность человека. Как я убеждалась не раз в разговоре с самыми разными людьми, подобное убеждение почти интуитивное. Некоторые китайские интеллигенты связаны со своим прошлым больше, чем с окружающим миром, от которого сознательно отгородились еще за два века до нашей эры Великой китайской стеной. В такой изоляции, насчитывающей два тысячелетия, а то и больше, не могли не развиться национальный эгоизм, шовинизм, идеи превосходства азиатской расы над другими народами и странами, дух национальной кичливости. Изоляционизм сделался своего рода политической и социально-психологической традицией.
У великого Сунь Ятсена вычитала: «Изоляционизм Китая и его высокомерие имеют длительную историю. Китай никогда не знал выгод международной взаимопомощи, поэтому он не умеет заимствовать лучшее у других, чтобы восполнить свои недостатки. То, чего китайцы не знают и не в состоянии сделать, они признают вообще невыполнимым… Китай очень высоко оценивал свои собственные достижения и ни во что не ставил другие государства. Это вошло в привычку и стало считаться чем-то совершенно естественным!»
В начале века видный буржуазный реформатор Кан Ювэй откровенно заявил: «Если в дальнейшем в стране не возникнет бунт, то безразлично, какие марионетки у нас будут сидеть в правительстве, мы станем гегемоном мира». Вон еще когда извивался драконом китайский гегемонизм, еще в ту пору, когда жестокая маньчжурка Цыси не ставила китайцев ни во что!
Вот это и есть субъективный фактор, который вдруг вырос передо мной во всей своей неприглядной обнаженности, как мифический предок китайцев Паньгу, гигант с телом змеи и головой дракона, порожденный хаосом. Я понимала: в моих рассуждениях, разумеется, есть преувеличение: и Китай сегодня не тот, и китайцы не те, у миллионов людей появилось классовое сознание. Все нужно брать в развитии. Так-то оно так. Но и корни, истоки забывать нельзя…
Я никогда не считала себя особо восприимчивой к международным делам, а теперь от них голова шла кругом. Ясное представление о теме диссертации вдруг раскололось вдребезги. Маньчжурию оказалось просто невозможно изолировать от остального мира: японцы, американцы и загадочный для меня Чан Кайши. Иногда он представлялся мифом, злым духом истории.
Он вел какую-то странную игру с нашим командованием: то Чан Кайши исступленно настаивает, чтобы наша армия немедленно ушла из Маньчжурии, открывает против нас клеветническую кампанию: русские, дескать, чуть ли не захватчики; то вдруг умоляет не уходить. Где логика? Но логика, разумеется, была. Железная логика, мной пока не разгаданная.
А возможно, все гораздо проще, чем кажется?
Над логикой политических себялюбцев стоит несгибаемая логика иностранных держав, или, вернее сказать, империалистическая логика США. Еще в 1932 году комиссией пресловутой Лиги Наций высказывалась мысль о том, что Китай-де не способен к самоуправлению, ему, мол, больше подходит метод «международного управления»: в Китае избыток дешевой рабочей силы, но без иностранного капитала, техники, иностранных специалистов он не сможет развиваться. Концепция уточнялась из года в год американцами и англичанами. В конце концов янки пришли к выводу: чтобы Китай развивался, он должен стать полуколонией США. Китай должен сделаться проамериканским! Цинично-откровенные янки! Они считают, что приход к власти в Китае подлинно демократического правительства нарушил бы все равновесие сил на Тихом океане. Этого ни в коем случае нельзя допустить! Готовы были даже заигрывать с Мао, с его «китайским марксизмом». Готовы были даже ввести представителей КПК в коалиционное правительство, которое по их замыслам должно стать правительством марионеток. Ввести с одним условием: КПК должна распустить народно-освободительные войска! Но поняли: армию КПК не распустит, ведь афоризм «винтовка рождает власть» принадлежит Мао.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гадание на иероглифах"
Книги похожие на "Гадание на иероглифах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Мария Колесникова - Гадание на иероглифах"
Отзывы читателей о книге "Гадание на иероглифах", комментарии и мнения людей о произведении.