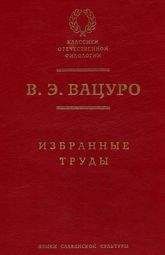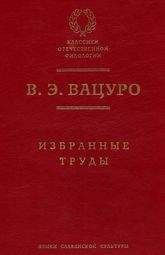Вадим Вацуро - Статьи разных лет

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Статьи разных лет"
Описание и краткое содержание "Статьи разных лет" читать бесплатно онлайн.
Сборник состоит из статей разных лет, смысл републикации которых — представить разные грани творчества В. Э. Вацуро. Здесь собраны мелкие заметки о Пушкине из «Временника Пушкинской комиссии», плановые институтские работы «Болгарские темы и мотивы в русской литературе 1820–1830-х гг.» и «Мицкевич и русская литературная среда 1820-х гг.», разыскания, связанные с подготовкой текстов для собраний стихотворений Хемницера и Некрасова в «Библиотеке поэта», предисловия к отдельным изданиям сочинений Дениса Давыдова и Дельвига, газетное интервью — реакция В. Э. Вацуро на ситуацию в стране после революции 1991 года («Будем работать в стол — благо опыта не занимать»), наконец, очерк о Горбачеве — неожиданный для академического ученого, хотя и вполне соотносящийся с общим в начале 1990-х годов стремлением историков прошлого концептуально осмыслить текущий момент.
В послании Пушкина «К Галичу» (1815) упоминается, видимо, та же баллада Дельвига:
Наш Дельвиг, наш поэт,
Несет свою балладу…[447]
Связь между двумя «балладами» — «Козаком» Пушкина и «Поляком» Дельвига представляется несомненной. «Козак» датируется 1814 г.; в 1815 г. он был опубликован. Дельвиг зависел от Пушкина; оба поэта разрабатывали одну сюжетную схему, но с разным наполнением и разными героями: воин (у Пушкина «друг», у Дельвига «враг») ищет ночлега в избушке, хозяйка которой — одинокая «девица-краса» (одно и то же определение в обоих текстах); на просьбу о ночлеге девушка отвечает отказом. У Пушкина:
Нет, к мужчине молодому
Страшно подойти,
Страшно выйти мне из дому,
Коню дать воды[448].
У Дельвига:
Сжалься надо мной, служивый!
Девица ему в ответ, —
Мать моя, отец убиты,
Здесь одна я без защиты
Страшно двери отпереть[449].
В обоих случаях этот отказ — ложная задержка действия; за ним следует настояние:
Верь, коханочка, пустое;
Ложный страх отбрось!
Тратишь время золотое,
Милая, небось!
У Пушкина козак предлагает девушке свою любовь и счастье с ним в «дальнем краю»; девушка соглашается и уезжает с козаком; идиллическая концовка, впрочем, иронически снимается в заключительных строках:
Дружку друг любил,
Был ей верен две недели,
В третью изменил.
У Дельвига ложная задержка образует завязку: девица, склонившись на просьбы, отворяет дверь; «поляк» пьет за ее здоровье и будущее счастье и засыпает, сломленный усталостью; лишь ночью, видя уснувшую девушку, он поддается соблазну и готов уже посягнуть на ее честь, но в этот момент его настигает мщение. Нужно сказать, что оно художественно мало мотивировано. Самый образ «поляка» решен отнюдь не как образ злодея, напротив: «враг» силою вещей, он испытывает своеобразное сочувствие, чтобы не сказать симпатию, к слабой и беспомощной хозяйке, и лишь необычность ситуации пробуждает в нем чувственное влечение. Мы могли бы говорить о художественной концепции, осложняющей и смягчающей образ традиционного «соблазнителя», если бы речь не шла о раннем, полудетском произведении. Однако о некоторых обозначившихся принципах изображения говорить уже можно. Они более всего сказываются в обрисовке центрального героя и у Дельвига, и у Пушкина. «Хват Денис» в «Козаке» как будто указывает на «гусаров» Дениса Давыдова, однако самый облик «козака» — это не облик «гусара» давыдовских «песен», а скорее условно-эпический тип удальца с чертами западнорусского этноса, даже с польскими элементами в одежде и речи:
Черна шапка на бекрене,
Весь жупан в пыли.
Пистолеты при колене,
Сабля до земли.
Верь, коханочка, пустое…
В ранней редакции баллада имела подзаголовок «Подражание малороссийскому», и исследователи улавливали черты соприкосновения ее с украинским песенным фольклором, а также с литературными имитациями типа песни «Iхав козак за Дунай» в «опере-водевиле» А. А. Шаховского «Козак-стихотворец»[450]. Нечто подобное происходит и в «Поляке» Дельвига, где также введен культурно-этнический знак: «И под мокрой епанчою задремал он над ковшом»; «Сняв большую рукавицу…». Но более всего фольклорный колорит подчеркнут здесь средствами речевой характеристики, а также всем ритмико-синтаксическим строем повествования, включая и строфическую организацию.
Именно здесь начинает обнаруживаться сходство ранней баллады Дельвига и позднего пушкинского шедевра.
Строфа «Воеводы» — это строфа «Поляка», в которую добавлен первый (или второй) рифмующий стих. «Поляк» написан пятистишиями четырехстопного хорея со схемой рифмовки АвССв — строфический эксперимент по аналогии с «балладными формами немецкого происхождения», где практиковались и нерифмующиеся стихи[451]. У Дельвига эта строфа оказывается неожиданно удобной для синтаксических параллелизмов в самых разнообразных вариациях — характерный фольклорный прием, едва ли не основная художественная находка «Поляка»:
Кто там? — всадника спросила
Робко девица-краса.
«Эй, пусти в избу погреться,
Буря свищет, дождик льется,
Тьмой покрыты небеса».
Или — параллелизм поговорочных речений, имитирующих грубоватое просторечие:
Что красавице бояться?
Ведь поляк не людоед!
Стойла конь не искусает,
Сбруя стопку не сломает,
Стол под ранцем не падет.
Сравним в «Воеводе»:
Подступили осторожно.
«Пан мой, целить мне не можно, —
Бедный хлопец прошептал. —
Ветер что ли; плачут очи,
Дрожь берет; в руках нет мочи,
Порох в полку не попал».
Здесь — довольно близкая аналогия обоим приведенным выше отрывкам из «Поляка». Со вторым пушкинский текст роднит установка на передачу иноязычной речи, причем «простонародной». Можно думать, что у Дельвига не случайно появились фразеологизмы, созданные по моделям русских поговорочных речений, но с совершенно иной, не русской (и несколько искусственной) системой образности. Пушкин в «Воеводе» решает ту же задачу с виртуозным искусством: он вводит обозначения, индикаторы польской речи — «пан мой», «целить мне не можно», «плачут очи» в пределах русской стилистической нормы[452], — путь, еще неизвестный Дельвигу в 1815 г. Но аналогия должна быть продолжена: сходство строф «Поляка» и «Воеводы» в интонационно-синтаксическом рисунке и функциональном назначении композиционных элементов. Первое четверостишие (у Дельвига — трехстишие), синтаксически свободное, составляет своего рода экспозицию; последующие стихи дают троичную параллель с градацией; третий член ее — замыкающая, последняя строка, на которую падает основная семантическая нагрузка. Любопытно, что в приведенных примерах параллель образуют и полустишия предпоследней строки; стих распадается на две синтагмы, тяготеющие к изоморфности. Синтаксические особенности лицейской баллады Дельвига на «польскую тему» словно предвосхищали балладу Мицкевича, написанную почти через полтора десятилетия. Параллельные сочетания оказались в стихах Дельвига своего рода стилистической доминантой — и то же самое мы видим в пушкинском переводе. Когда Пушкин усовершенствовал строфику, преобразовав пятистишия в шестистишия, он получил возможности еще большего разнообразия в варьировании параллелизмов — и любопытно, что в этом отношении он оказался ближе к Дельвигу, чем к оригиналу Мицкевича. В «Засаде» концентрация изоморфных конструкций меньше, чем в «Воеводе», и полустишия далеко не всегда образуют параллелизм. Сравним:
Панна плачет и тоскует,
Он колени ей целует,
А сквозь ветви те глядят;
Ружья наземь опустили,
По патрону откусили,
Вбили шомполом заряд.
у Мицкевича:
Ona jeszcze nie słucha, on jej szepce do ucha
Nowe skargi czy nowe zaklęcia:
Aż wzruszona, zemdlona, opu ścila ramiona
I schyliła się w hego objęcia.
Wojewoda z kozakiem przyklękneli za krzakiem
I dobyli z zapasa naboje,
I odcięli zębami, i przybili stęflami
Prochu garść i grankulek we dwoje.
Пушкин как бы сжимает, конспектирует сцену, освобождаясь от побочных деталей, и делает это с помощью «стремительного движения коротких, нераспространенных предложений, состоящих только из главных членов», т. е. тех форм поэтического сказа, которые В. В. Виноградов с полным основанием считал одной из важных особенностей стихотворного синтаксиса позднего Пушкина[453]. Но иллюзия стремительного движения не обязательно связана с сокращением исходного текста. Концовка пушкинской баллады показывает это совершении ясно: в ней две строки Мицкевича развернуты в более детализированную картину, занимающую целую строфу.
Kozak odwiódł, wycelił, nie czekajac wystrelił
I ugodził w sam łeb — wojewody.
У Пушкина:
Выстрел по саду раздался,
Хлопец пана не дождался;
Воевода закричал,
Воевода пошатнулся…
Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал.
В пушкинской концовке — игра синтаксическими и семантическими параллелями, антитезами, контрастными сопоставлениями, на фоне которых особенно ясно выступает замыкающая роль заключительного стиха. Возможности для нее открывала найденная поэтом строфа, первый абрис которой обозначился в лицейской балладе Дельвига. «Польская баллада» 1815 г. оказалась исходным материалом для «польской» — уже не метафорически, а буквально — баллады зрелого Пушкина. Вряд ли здесь действовал сознательный выбор или целенаправленные воспоминания о Дельвиге, хотя нам известно, что в поздние годы Пушкин постоянно обращается к памяти ближайшего из своих друзей, — скорее мы имеем дело с работой поэтического подсознания, нерегулируемым ходом ассоциаций, когда литературные модели и аналоги возникают на периферии художественного сознания, питая собой литературные шедевры.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Статьи разных лет"
Книги похожие на "Статьи разных лет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Вацуро - Статьи разных лет"
Отзывы читателей о книге "Статьи разных лет", комментарии и мнения людей о произведении.