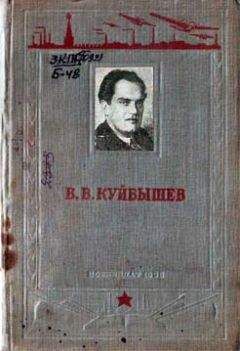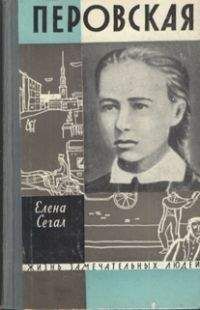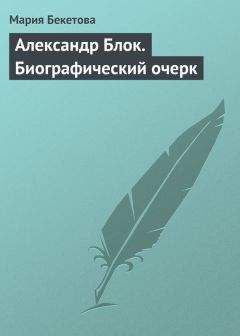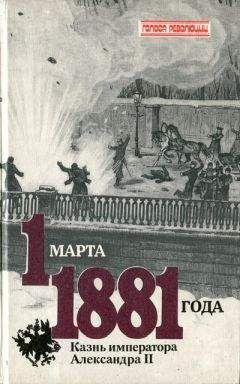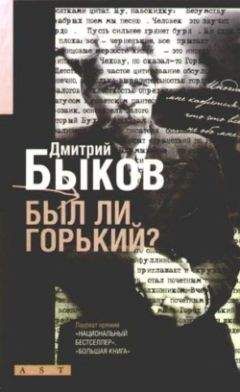Павел Анненков - Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском"
Описание и краткое содержание "Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском" читать бесплатно онлайн.
Анненков писал свой очерк-воспоминание о Писемском в конце 1881 – в самом начале 1882 г., то есть вскоре же после смерти писателя (январь 1881 г.), и называл этот очерк «пространным некрологом».
Мемуарист располагал богатым биографическим материалом, собранным к тому времени женой и сыном писателя, но мало использовал его. В письме к Е. П. Писемской от 28 октября 1881 г. он подчеркивал, что пишет не биографию, а именно воспоминания и ставит своей целью «определить с некоторой достоверностью нравственные качества» А. Ф. Писемского, «те богатства души, мысли и таланта, которые лежали в основе его природы»
Между прочим, в Петербурге уже давно поджидали Писемского, но осторожный автор «Тюфяка» явился на берегах Невы только в 1853 году[5], и появлению этому еще предшествовало заметное изменение в отношениях «Современника» к новому московскому кружку, собравшемуся под знаменем «Москвитянина».
Факт этот имеет некоторого рода значение как в биографии Писемского, так и в биографии другого деятеля, А. Н, Островского. Надо сказать, что оба главные органа петербургской журналистики, «Отечественные записки» и «Современник», старательно поддерживали, после смерти Белинского, полемику с славянофилами, не давая совершенно погаснуть огоньку, который некогда освещал так ярко положение литературных партий и помогал скрытному обмену политических идей между ними. Известно, что Белинский к концу своего поприща склонялся признать разумность некоторых положений своих противников, но продолжатели его не хотели и слышать о каких-либо уступках. По-своему они были правы. При том гнете, который лежал на печати, единственная возможность заявить себя бодрым еще и действующим организмом заключалась для журналистики в возобновлении старой литературной полемики.
К подобному же заключению приведена была и партия славянофилов. Борьба снова завязалась, но теперь она походила уже на струю той сказочной живой воды, которая имела силу воскрешать мертвецов, ею окропленных; сражались уже не живые люди, а мертвецы, что доказывалось их оружием: повторением старых, некогда столь новых и ярких тем, подогретыми останками прежней бойкой речи, намеками на давние смелые и теперь обветшавшие положения и проч.
Наиболее свежим и живым бойцом, выставленным Москвою, оказался Ап. Григорьев, замечательный критик эпохи; но это был славянофил не очень чистой крови. Артистическая его натура часто не выдерживала аскетической принужденности, налагаемой школою, и его видели не раз в рядах поклонников перед западными идеями и учреждениями. К тому же дипломатическая сноровка, довольно сильно развитая в обоих лагерях, была совершенно чужда этому правдивому человеку, и никогда посторонние соображения о выгодах или необходимостях партии не затемняли его убеждений и не влияли на его приговоры. Одно из его смелых положений (и не самое важное), именно пророчество о скором появлении на Руси нового слова, которое выведет будто бы литературу и общество наше на настоящую дорогу, где они и найдут разрешение многих своих вопросов и недоумений, было поднято петербургскими оппонентами его и послужило зерном полемики, продолжавшейся довольно долгое время[6]. В новом слове Ап. Григорьева западники Петербурга и Москвы усмотрели намек на деятельность кружка писателей, которые работали вместе с ним. Вся школа эта и преимущественно беллетристы ее заподозрены были в обскурантизме, задавшемся целью найти в народном и полународном быте элементы не одного драматического и литературного творчества, но и философии и правильного понимания нравственных начал. Это было недоразумение, за которое поломалось, однако же, немало копий с обеих сторон. Конец этому недоразумению положили на петербургской почве два человека, именно: только что вернувшийся тогда из-за границы (1850) И. С. Тургенев и недавно еще появившийся на литературной арене А. В. Дружинин. Оба они, как люди, воспитанные на образцах искусства, тотчас же распознали, сколько мастерства выказывает Островский в создании своих типов и в изложении драматической интриги, сколько произведения Писемского обнаруживают непосредственной силы таланта и сколько критики Ап. Григорьева заключают в себе проблесков независимой мысли и страстной потребности всегда найти последнее слово и выражение для точного определения предмета критики[7]. Закрывать глаза на качества и деятельность подобных людей, руководясь одними побочными соображениями, подозрениями и неблагожелательством к их предполагаемым симпатиям, показалось обоим петербургским критикам вопиющей неправдою. Дружинин завязал от своего имени и не спросясь редакции журнала, где участвовал («Современник» – «Письма иногороднего подписчика»), дружеские сношения с народившимся кружком, за что и получил ранние симпатии его и прозвище «честного рыцаря»; Тургенев явился в 1852 году в «Современнике» со статьей о «Бедной невесте» Островского, где еще осторожно, но уже достаточно ясно, выразил свое сочувствие к автору пьесы, находя в ней много драматической правды и поэзии, наряду с ловкостью и исканием сценического эффекта[8]. Может быть, симпатии литераторов петербургской окраски к их московским собратам получили бы еще большее развитие, если бы им не мешали сами редакции журналов по закоренелой их привычке к полемике с партией, в которой теперь думали видеть прислужницу наступивших тяжелых порядков времени. «Отечественные записки», например, долее всех упорствовали в мнении, что А. Н. Островский служит представителем ретроградных направлений, прикрывающихся именем «народа», а Ап. Григорьев исполняет незавидную роль панегириста византийских созерцаний. Один из редакторов самого «Современника», Панаев, еще говорил по поводу направления, принятого Тургеневым: «Надо сдерживать Ивана Сергеевича, а то его московским прославлениям не будет меры и конца», да он же, Панаев, принял на себя после устраненного Дружинина (1851) и редакцию журнального фельетона, сняв с него эклектический характер, сообщенный ему прежним составителем. Как бы то ни было, но лед был поломан; путь для сближения между передовыми людьми эпохи найден, и Писемский мог в следующем, 1853 году переселиться в Петербург с полным убеждением, что он найдет там друзей и искреннее благорасположение, в чем и не ошибся.
Трудно себе и представить более полный, цельный тип чрезвычайно умного и вместе оригинального провинциала, чем тот, который явился в Петербург в образе молодого Писемского, с его крепкой, коренастой фигурой, большой головой, испытующими, наблюдательными глазами и ленивой походкой. На всем его существе лежала печать какой-то усталости, приобретаемой в провинции от ее халатного, распущенного образа жизни и скорого удовлетворения разных органических прихотей. С первого взгляда на него рождалось убеждение, что он ни на волос не изменил обычной своей физиономии, не прикрасил себя никакой более или менее интересной и хорошо придуманной чертой, не принарядился морально, как это обыкновенно делают люди, впервые являющиеся перед незнакомыми лицами. Ясно делалось, что он вышел на улицы Петербурга точно таким, каким сел в экипаж, отправляясь из своего родного гнезда. Он сохранил всего себя, начиная с своего костромского акцента («Кабинет Панаева поражает меня великолепием», – говорил он после свиданья с щеголеватым редактором «Современника») и кончая насмешливыми выходками по поводу столичной утонченности жизни, языка и обращения.
Все было в нем откровенно и просто. Он производил на всех впечатление какой-то диковинки посреди Петербурга, но диковинки не простой, мимо которой проходят, бросив на нее взгляд, а такой, которая останавливает и заставляет много и долго думать о себе. Нельзя было подметить ничего вычитанного, затверженного на память, захваченного со стороны в его речах и мнениях. Все суждения принадлежали ему, природе его практического ума и не обнаруживали никакого родства с ученьями и верованиями, наиболее распространенными между тогдашними образованными людьми. Кругом Писемского в ту пору существовало еще в Петербурге много мыслей и моральных идей, признанных бесспорными и которые изъяты были навсегда из прений как очевидные истины. Писемский оказался врагом большей части этих непререкаемых догматов цивилизации. Так, учение, исповедуемое почти единогласно развитыми людьми всех оттенков Петербурга, о правах жены и женщины на полную свободу, в которой им отказывает еще современное общество, нашло в нем очень оригинального скептика. Помню изумление в кругу петербургских гуманистов, возбужденное его мнением, что женщина составляет только подробность в жизни мужчины и сама по себе, взятая единолично, не имеет значения, что обязанности мужа к жене исчерпываются возможно лучшим материальным содержанием ее и что серьезные отношения между ними наступают только с появлением детей, а совсем не с появления так называемой любви, о которой так много говорят поэты и романисты. Но это мнение было только началом тех сюрпризов, которые Писемский готовил своим слушателям.
Писемский, например, добродушно признавался им, что испытывает род органического отвращения к иностранцам, которого победить в себе не может. «Присутствие иностранца, – говорил Писемский, – действует на меня уничтожающим образом: я лишаюсь спокойствия духа и желания мыслить и говорить. Пока он у меня на глазах, я подвергаюсь чему-то вроде столбняка и решительно теряю способность понимать его». Конечно, во всех афоризмах подобного рода многое должно быть отнесено и на обычное преувеличение дружеских разговоров, но все-таки присутствие истинного чувства тут несомненно. Кто же не узнает в таких и им подобных словах Писемского дальние отголоски старой русской культуры, напоминающие строй мыслей прежнего боярства и думных людей Московского царства? Вообще, порывшись немного в наиболее резких мнениях и идеях Писемского, которые мы обзывали сплошь парадоксами, всегда отыскивались зерна и крохи какой-то давней, полуисчезнувшей культуры, сбереженной еще кой-где в отрывках простым нашим народом. Самый юмор его, насмешливый тон речи, способность отыскивать быстро яркий эпитет для обозначения существенной нравственной черты в характере человека, который за ним и остается навсегда, и наконец слово, часто окрашенное циническим оттенком, сближало его с деревней и умственными привычками народа, в ней живущего. От них несло особенным ароматическим запахом развороченной лесной чащи, поднятого на соху чернозема, всем тем, что французы называют «parfum de terroir» (запахом земли, почвы). При виде Писемского в обществе и в семье, при разговорах с ним и даже при чтении его произведений, я думаю, невольно возникала мысль у каждого, что перед ним стоит исторический великорусский мужик, прошедший через университет, усвоивший себе общечеловеческую цивилизацию и сохранивший многое, что отличало его до этого посвящения в европейскую науку. Можно легко представить себе, какой интерес представлял подобный тип в Петербурге.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском"
Книги похожие на "Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Анненков - Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском"
Отзывы читателей о книге "Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф. Писемском", комментарии и мнения людей о произведении.