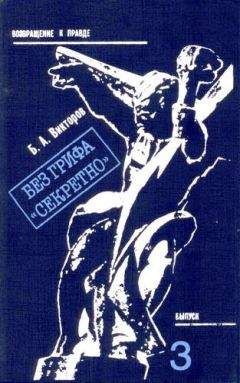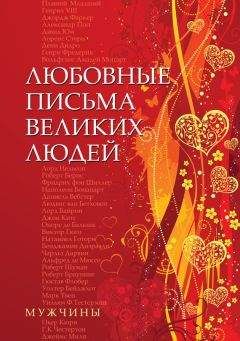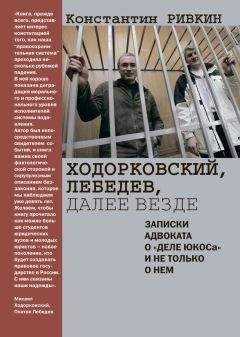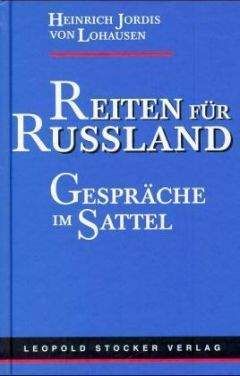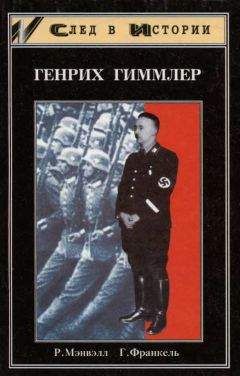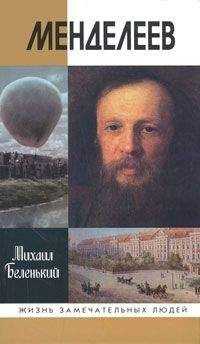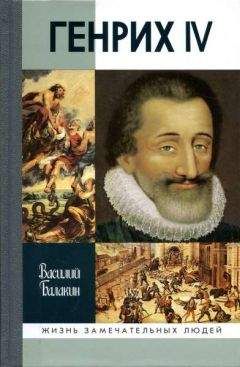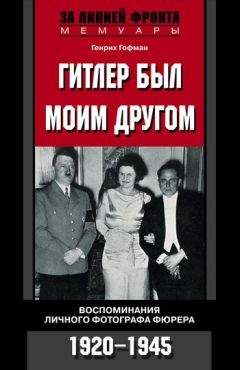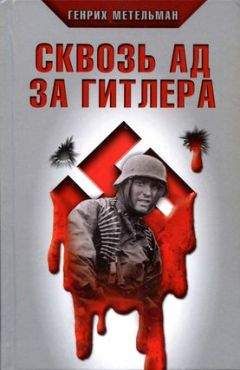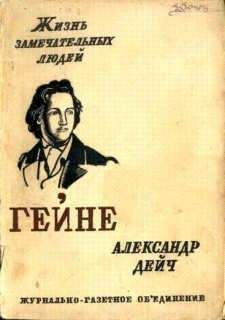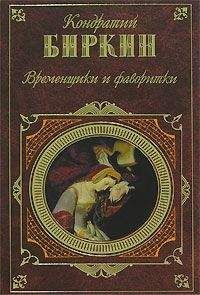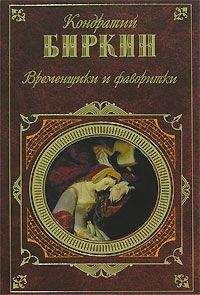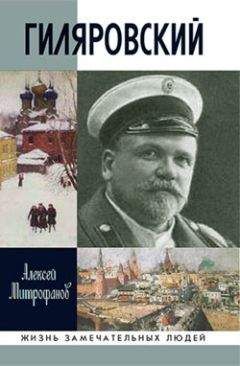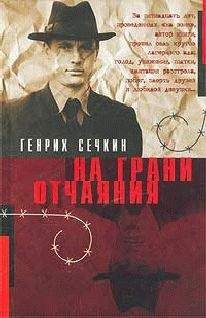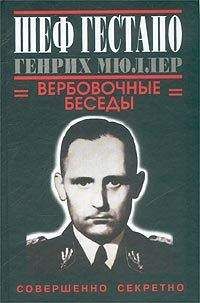Генрих Падва - От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката
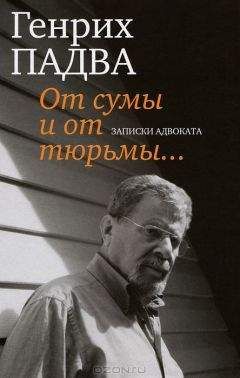
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката"
Описание и краткое содержание "От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката" читать бесплатно онлайн.
Известный российский юрист Генрих Падва, один из создателей Союза адвокатов СССР, за свою более чем полувековую практику защищал в судебных процессах тысячи людей. Коренной москвич с Патриарших прудов, он начинал свою карьеру простым провинциальным адвокатом в Калининской (ныне Тверской) области.
Среди его подзащитных были самые разные люди: и простые люди и знаменитые криминальные авторитеты, такие как Слава Япончик (Вячеслав Иванько), и крупные политические деятели, в том числе А. И. Лукьянов. Он защищал в суде Анатолия Быкова и Михаила Ходорковского, оказывал юридическую помощь родным и близким академика А. Д. Сахарова и всемирно известному музыканту М. Л. Ростроповичу. Ему приходилось участвовать в спорах о наследстве величайшего российского певца Шаляпина.
Генрих Падва одним из первых в стране стал вести дела по защите чести и достоинства, да и само законодательство по таким делам возникло не без его участия.
Были мы там с моим коллегой Генрихом Ревзиным, о котором я уже здесь писал. И Ревзин, выступая, несколько раз произнес: «Противная сторона» — это было общепринятое выражение, обозначающее противника в процессе. Неожиданно, однако, судья его прервал и произнес, сильно окая:
— ЧтО вы тОкОе гОвОрите — прОтивная стОрОна, прОтивная стОрОна — для суда обе стОрОны Одинаково прОтивные!
Я столько потом рассказывал эту историю, что она широко разошлась, превратившись в анекдот.
Другой судья слушает показания свидетеля. Свидетель утверждает, что подсудимый выражался нецензурно.
— Как именно выражался подсудимый? — спрашивает судья.
— Нецензурно, — мнется свидетель.
— Что именно он сказал? — настаивает судья.
— Не могу повторить…
— Ну, на какую букву, — не отступает судья.
— На «Р».
— Нет на эту букву нецензурного ругательства, — заключает судья.
— Есть, — упирается свидетель.
— Ну, хорошо, — вскипает судья, — прошу всех покинуть зал судебного заседания, дальнейшее слушание будет вестись при закрытых дверях.
Всех выводят. Участники процесса остаются одни.
— Ну, как он вас обозвал, повторите.
— Распиздяй.
Судья радостно всплескивает руками:
— Точно, есть такое слово!
Суд продолжается.
В другом районном центре, городе Зубцове, одна из судей была поклонницей Бахуса. О ней, а точнее, о том, как она совмещала эту свою страсть со служебной деятельностью, ходили легенды! Мне самому пришлось видеть, как ее под руки усаживали в машину, когда мы отправлялись на выездную сессию суда в какую-то деревню. Правда, пока мы доехали, нас изрядно растрясло и проветрило. Так что из машины она уже вышла самостоятельно. А затем, на удивление, вынесла неплохо аргументированный приговор.
Не менее необычной личностью была и судья в поселке Лесное — тоже районном центре. Эта дама была твердо убеждена, что путь к правосудию должен проходить через ее опочивальню, которая находилась в том же здании, что и сам народный суд. Многих приезжих мужчин ждали там жаркие объятия. Полагая, что суд, в котором она служит, — это храм, доморощенная Мессалина из Лесного, видимо, искренне считала себя служительницей хорошо известного в древности и весьма почитаемого храмового культа.
Рассказывая об этих особенностях некоторых судей того времени, я понимаю, что многим мои воспоминания покажутся почти невероятными, а то и клеветническими. Конечно же, далеко не все судьи обладали такими «выдающимися качествами» — в целом Калининская судебная юстиция вполне успешно обеспечивала нужды и требования правящего класса.
Среди судей встречались справедливые и мыслящие люди, квалифицированные специалисты. Такими были, например, судьи, муж и жена, в Ржеве, судья областного Калининского суда Кабаненко, замечательный судья и человек Юрий Пушкин и многие другие. Но все же то, что я написал выше о некоторых сельских судьях, — это абсолютная правда.
Запомнился мне Лесной район не только пылким темпераментом районного судьи. Попасть туда из Калинина можно было только самолетом. Однажды я прилетел в Лесное, провел дело и должен был возвращаться назад, причем довольно срочно, поскольку у меня уже было назначено слушание в Калининском областном суде. Но на мое несчастье погода не позволяла лететь на местном пассажирском самолетике. После длительных переговоров с Калинином мне предложили лететь на почтовом самолете — правда, оговорились, что это только по моей доброй воле. Недолго думая и не очень представляя себе, что это такое, я согласился и приехал на так называемое летное поле.
Вскоре на него приземлился самолет. Честно говоря, увидев его еще в воздухе, я принял его за стрекозу — такой он был малюсенький, летел низенько и приветливо стрекотал! Приблизившись к самолету, я понял, что он собран из того конструктора, который у меня был в детстве, но, видимо, в связи с потерей большого количества узлов и деталей они были заменены фанерками и проволочками. Ничего подобного креслам для пассажиров в нем не было — он вообще внутри фюзеляжа не имел никаких приспособлений для перевозки людей.
Сложив в самолет почту, работники аэродрома засунули туда и меня — через дырку в верхней части корпуса, прямо на гору посылок. Ноги мои и самая нижняя часть туловища оказалась внутри, но сам я парил в воздухе. Меня это немножко взволновало, но не испугало. Самолет, коротко разбежавшись, взлетел. И уже через несколько минут полета я понял, что спасения нет — как нет и никакой возможности долететь. Самолет трясло, кренило, он то и дело падал в воздушные ямы, и я должен был по всем законам физики, аэродинамики или чего-то там еще вывалиться из машины, так как держаться мне было не за что — снаружи и изнутри он был абсолютно гладким.
Мой центр тяжести, как мне казалось, тоже находился снаружи, в воздухе, а не внутри самолета. Более того, когда самолетик попадал в воздушную яму (а он это делал непрерывно и многократно), он падал, а я весь, кроме, может быть, пяток, оказывался висящим в воздухе и только каким-то чудом потом плюхался обратно на место.
Лететь пришлось примерно минут сорок. Когда самолет приземлился, у меня было ощущение, что я во время полета, прямо в одежде, принял ванну, такой я был мокрый от пота с головы до ног.
В Лесной район мне пришлось потом лететь еще однажды, и в этот второй раз пассажирские самолеты снова не летали, но воспользоваться услугами почтового я отказался наотрез. Тогда мне предложили ехать на попутных машинах. Такой вариант показался мне гораздо привлекательнее, однако поскольку дороги в сторону Калинина не было, нужно было сначала из Лесного ехать в Новгородскую область, а уж оттуда добираться в Калинин. Я вынужден был согласиться.
Машины в то время по некоторым дорогам, или, вернее сказать, по бездорожью, в одиночку не ездили — нужно было собрать колонну хотя бы из трех грузовиков. Ведущие колеса машин обвязывали тяжелыми цепями. Из-за жуткой грязи и, мягко говоря, неровностей дороги грузовики непрестанно буксовали. Их вытягивали, добавляя к лошадиным силам человеческие. Так и двигались — от одной чайной до другой, где все, конечно же, во главе с водителями, выпивали, «закусывали» рукавом, а потом снова садились по машинам и тащились дальше. Я до сих пор помню натужное тарахтенье несчастных двигателей этих машин и шлепанье цепей по дорожным лужам.
Все были, естественно, забрызганы грязью. Я был такой же грязный, как и все мои спутники, — ведь не мог же я не толкать машину вместе с водителями. Не отставал я от шоферов и в чайных. Так что к Новгородской области я добрался в очень веселом настроении. А вот как потом ехал в Калинин, совершенно не могу вспомнить — видимо, это уже показалось слишком обыденным после моих приключений.
* * *Несколько раз то ли Погорельский райком комсомола, то ли даже райком партии засылал меня в местные колхозы читать лекции — как правило, о том, о чем сам я понятия не имел. Например, разъяснять какое-нибудь постановление ЦК КПСС о необходимости выращивания кукурузы — во времена Хрущева это была наиважнейшая тема! Сам я даже не представлял, как она растет, но помню до сих пор, как с важным видом рассказывал колхозникам: если вырастить кукурузу до молочно-восковой спелости, а потом накормить этой кукурузой корову, то надои от нее увеличатся чуть ли не во много раз. Усвоив это ценное знание, я иной раз и роженицам мог при случае поведать о таком чудесном свойстве кукурузы и с серьезным видом посоветовать включить ее в свой рацион. По логике этого постановления проблем с молоком у кормящих матерей никак не могло возникать!
Это были незабываемые поездки! Уж не знаю, что на самом деле было на душе у этих слушавших меня в колхозах людей, но они таких, как я, «просветителей» радушно принимали, кормили, поили — в основном как раз поили, причем самогонкой. И я в этих командировках, конечно же, главным образом, пил самогон и дрых, потому что читать лекции о севообороте крестьянам, которые этим жили испокон веков, было по меньшей мере смешно, а убеждать их сажать кукурузу, которая в этих местах сроду не росла, — грешно!
Видел я и этих коров, которых полагалось кормить кукурузой молочно-восковой спелости — они буквально подыхали от голода, от холода, от грязи на своих скотных дворах. Да и что это были за скотные дворы — одно название: какие-то плетни, криво приколоченные доски, столбы, на которых еле держится крыша, всюду — по колено навозная жижа. И подвязанные к стропилам коровы.
Коров подвязывали, чтобы они не упали от бескормицы, потому что если они падали, то уже не поднимались, а так у них сохранялась некая видимость жизни. Подвязывали их так, как будто они стояли на ногах, копытами касались земли, но при этом висели на веревках, потому что выдерживать собственный вес их ноги уже не могли. Я потом это видел в кинофильме Алексея Салтыкова «Председатель». Помню, как некий критик, которому в целом понравился этот фильм с гениальным Ульяновым в главной роли, говорил, что подвязанные коровы — это уж преувеличение, которое негоже вставлять в реалистический фильм. Я не стал с ним спорить. Он просто судил о том, чего не знал и не видел. А я видел это собственными глазами.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката"
Книги похожие на "От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Генрих Падва - От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката"
Отзывы читателей о книге "От сумы и от тюрьмы… Записки адвоката", комментарии и мнения людей о произведении.