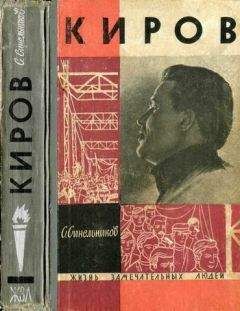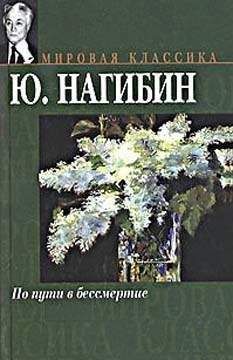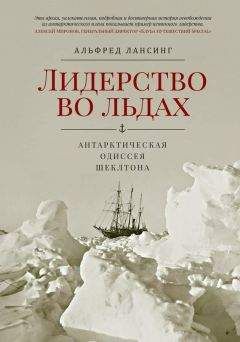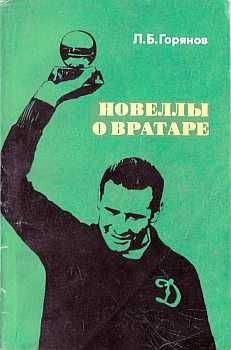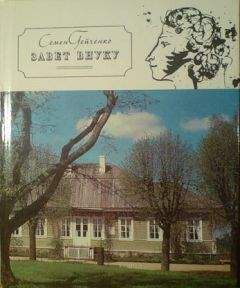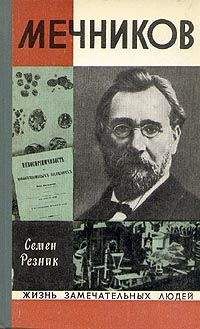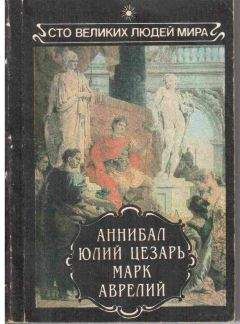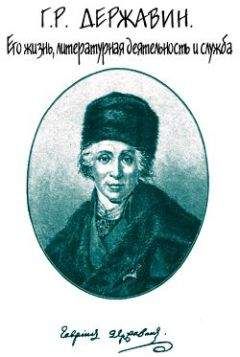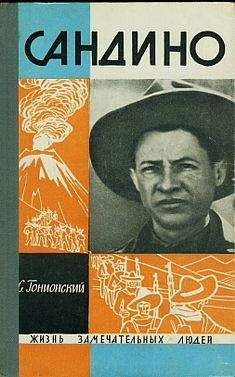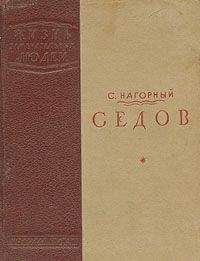Семен Гейченко - Пушкиногорье
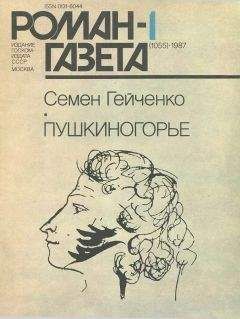
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пушкиногорье"
Описание и краткое содержание "Пушкиногорье" читать бесплатно онлайн.
Новеллы расскажут об одном из самых дорогих нам мест отечества — о Пушкиногорье.
Саперы оставили по себе хорошую память в Михайловском. В свободное время они добровольно и с большой охотой помогали нам восстанавливать домик няни — первый музей, открытый в 1947 году. Очищали Михайловские рощи от пней и завалов, зарывали траншеи, окопы, блиндажи. Леон Абгарович Орбели — тогдашний вице-президент Академии наук — горячо благодарил их за это святое дело. Многим жителям деревень Бугрово и Гайки саперы помогли построить новые избы. А сколько народу харчевалось в походных солдатских кухнях, сколько концертов и киносеансов было устроено под открытым небом Михайловского для людей, которые за четыре года оккупации совсем отвыкли от художественного слова, кино, музыки! Этих добрых дел никто и никогда не забудет!
Вечная память двум бойцам, погибшим при разминировании Тригорского и Петровского!
В Михайловском, слава богу, все обошлось благополучно, без жертв.
Теперь, когда толпы людей ежедневно приходят посмотреть восстановленный дом поэта, первое, что они видят в прихожей, — это маленькая медная пушечка-мортирка. О ней в книге А. Мошина — собирателя народных легенд о Пушкине, изданной до революции в Петербурге под названием «Новое об 11 великих писателях», приводится свидетельство местного старожила Ивана Павловича: «Пушечка такая стояла завсегда около ворот Михайловского еще с давних пор…»
Потом эта пушечка исчезла неизвестно куда, как, впрочем, исчезла вся обстановка усадьбы до последнего черепка…
И вот в сентябре 1953 года в центре Михайловского, в нескольких шагах от густого орешника, замыкающего парк с северной стороны, там, где стоят полукруглые трельяжные беседки, солдат А. А. Алексеенко, из подразделения саперов, которым командовал подполковник Солдатов, вдруг зычно закричал:
— Ребята, вот так пушка!
К Алексеенко подбежали другие солдаты и мы, сотрудники заповедника. И действительно, все увидели пушечку. Она лежала на глубине 60–70 сантиметров от внешнего покрова земли. Пушечку вынули, стали рассматривать. И тут все объяснилось. Это была так называемая коронада — пушечка, какие в старину обычно ставились помещиками в своих усадьбах. Из них в праздничные и знаменательные дни палили в честь хозяев и их гостей. На пушечке выгравированы обозначения. На одной из опорных пят надпись «Р. F. Mortier» и цифра 1. На другой — «21 Р. 1831». Около запальника следы монограммы, кем-то тщательно сбитой.
Вот и нашлась старинная пушечка Михайловского!
Прежде чем она была передана музею и поставлена там, где сейчас стоит, произошла трогательная сцена. А. А. Алексеенко подошел к подполковнику и отрапортовал:
— Товарищ подполковник, разрешите в честь Александра Сергеевича Пушкина пальнуть разок из этого орудия! Холостым!
Подполковник подумал, посмотрел на меня и спросил:
— Ну что ж, ежели директор не возражает? Пушечка еще сильная, сохранилась прекрасно!..
Я, конечно, согласился. Подполковник приказал:
— Только зарядить не очень туго… осторожней!
— Есть не очень туго! — ответил солдат.
Пушечку зарядили. Все стали во фронт. Раздалась команда «огонь!» — и грянул салют!
Февраль 1947 года был крутым, морозным, метельным. В день и час смерти А. С. Пушкина, как всегда, у его могилы в Святогорском монастыре собрались местные жители, сотрудники Пушкинского заповедник ка, школьники. Они возложили венки, помянули великого поэта живыми, добрыми словами. День этот был особый. Он был днем начала восстановления дома поэта в Михайловском. Коллективы сотрудников заповедника и восстановителей Ленакадемстроя на своем общем собрании заверили президента Академии наук СССР С. И. Вавилова в том, что они обязуются в самый короткий срок возродить усадьбу и дом поэта. На это Сергей Иванович Вавилов ответил строителям и хранителям благодарственной телеграммой.
У монастырской стены стоял наготове своеобразный поезд. В нем были люди, кони, сани, походная кухня и электростанция, полученные в Ленинградской военной академии тыла и транспорта. Полсотни мужчин и женщин выстроились вдоль поезда. Последнее напутствие. Команда — «Пошел!..» — и вся армада тронулась в путь. Возглавляли поезд начальник реставрационной мастерской Академстроя В. Смирнов и я. Ехали в Новоржевщину, Там Псковский облисполком выделил заповеднику лесную делянку для заготовки строительного леса к сооружению дома поэта и других исторических построек. Там в лесу и решили мы срубить дом, а потом, разобрав, подтащить его к реке и сплавом отправить в Михайловское, что и было сделано весною.
Приехали в лес. Тамошние лесники отмерили нам делянку. Поставили палатки, заготовили дрова, разожгли костры, задымила кухня, зашумел лес. Началась Суровая, интересная, походная жизнь. Все шло Вдохновенно, деловито и радостно. Лес был сосновый, отличный. Сруб получился на славу. Приехавший из Академии наук главный инженер Власов дал строителям «добро». Изредка приезжали сюда научные сотрудники заповедника. Они читали лекции о Пушкине, о восстановлении Ленинграда, Пулковской обсерватории, города Пушкина, рассказывали, как в нашей стране идет подготовка к пушкинскому юбилею, 150-летию его. Приезжала кинопередвижка… Все было благо… Дом приплыл в Михайловское вовремя и вовремя был поставлен на старый фундамент. Началась внутренняя отделка исторического памятника…
Кругом нашего лагеря было пустынно. Неподалеку виднелись две маленькие деревушки. Изб в них не было. Люди жили в наспех вырытых землянках. Наши строители многим жителям помогали отстроиться, особенно тем, у кого было много детей, стариков, где были инвалиды войны… Вспоминается, многое: разное, грустное и смешное…
Однажды в сильно морозный день решился я сходить в деревню и попросить ночлега у хозяев одной из землянок. Очень уж было холодно в палатке. Пришел я. Постучался. Двери открыла древняя старушка, Внутри землянки увидел я пол из тонких жердей, пляшущих под ногами. Окон нет, на столике — коптилка из консервной банки. На полу большое одеяло, бог знает из чего сшитое, старый армяк. Под одеялом что-то шевелилось, потом вылезли детские головки, а потом у их головок показалась еще одна головка маленького розовенького поросеночка, с которым ребятишки играли. В землянке стоял крепкий крестьянский русский дух. Несмотря на беспредельную бедность, в ней было как-то ласково и уютно. Я присел на самодельную лавку, сделанную из снарядного ящика. Спросил: «Где хозяева?» Старуха ответила, что они в лесу работают…
— Не хотите ли кашки немецкой? — спросила меня бабуля.
— Чего? — ответил я.
— Да кашки немецкой, — повторила она и продолжала: — Тут в подвале одной разбитой избы нашли мы два хороших немецких мешка… Смотрим, в них — горох — не горох, а зерна, будто бы и горох. Решили, что это гороховый сорт такой. Стали варить и есть. Ничего, есть можно! Изредка варим!..
Я поблагодарил за приглашение и согласился на трапезу. Хозяйка поставила на стол деревянную латку, положила в нее каши, сдобрила ее ложкой масла и поставила передо мной. Я ел и никак не мог понять, что ем. А потом догадался. Это был вареный хороший натуральный нежареный кофе в зернах. Его, вероятно, бросили фашисты, когда удирали из Новоржева.
Я любил натуральный кофе. В 1946 году он был очень большой редкостью. Я попросил старушку об одолжении… Она щедро насыпала его мне в шапку… Возвратясь к себе домой, я долго угощался этим кофе. И теперь каждый раз при слове «кофе» я вспоминаю тот год, новоржевский лес, землянку и добрую бабушку.
На околице Михайловского, почти возле калитки, ведущей к усадьбе поэта, стоит старая-престарая сосна. Вероятно, это самое древнее дерево в здешних рощах. Она стояла здесь тогда, когда и Михайловского-то еще не было, и ничего вообще не было. Не было ни Ганнибалов, ни Пушкиных, Ей, почитай, лет триста, а может, и больше…
Стоит старая сосна как маяк на берегу взморья. От нее все хорошо видно — окрестные поля, озера, холмы, нивы, деревни, все воспетое Пушкиным.
Только эта сосна не просто древняя, огромная, красивая, не просто, как говорится, «чудесный памятник природы». Она живой памятник Великой Отечественной войны.
В 1944 году, когда в Михайловском были гитлеровцы, она стояла на передовой линии фронта, который тянулся по берегу Сороти и вверх и вниз. Ее дряхлый, искалеченный ствол, сломанные сучья напоминают о героических днях освобождения пушкинской земли от фашистских захватчиков. Следы войны на ней неистребимы. Они-теперь стали мало заметны, но их обнаружить легко. Память человеческая никогда не позволит истребить их полностью.
Когда вы внимательно рассматриваете эту землю, вы видите полузаплывшие следы фашистских траншей, окопов» ям от мин, котлованов от блиндажей и бункеров.
Когда фашисты рубили михайловские сосны для постройки блиндажей в своей линии «Пантера» (они спилили сорок тысяч сосен!), нм хотелось спилить и это древнее дерево. И пила уже вонзилась в тело сосны. Но потом они решили ее оставить, очень уж мощное было дерево, и пила плохо брала его. Дерево было использовано иначе. В ее кудрявой кроне фашисты сделали гнездо для снайпера и площадку для артиллерийского наблюдателя. Ведь отсюда до нашего советского «передка» было меньше километра. Наши разведчики и наблюдатели быстро разглядели фашистских молодчиков и скоро сняли их с сосны.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пушкиногорье"
Книги похожие на "Пушкиногорье" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Семен Гейченко - Пушкиногорье"
Отзывы читателей о книге "Пушкиногорье", комментарии и мнения людей о произведении.