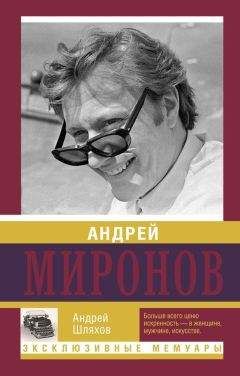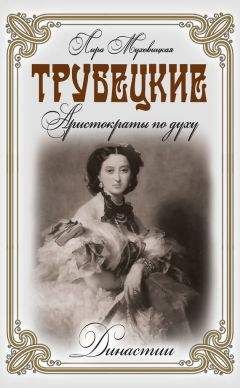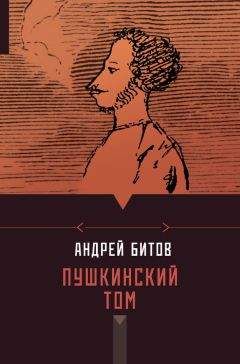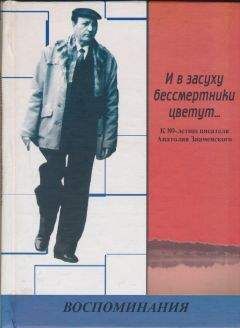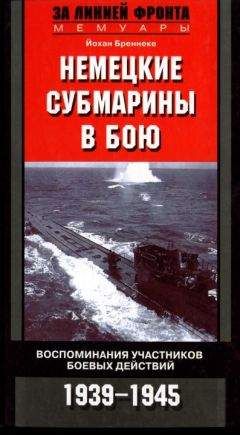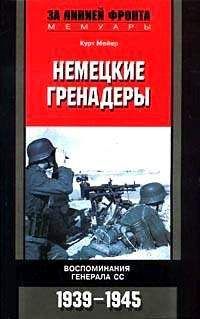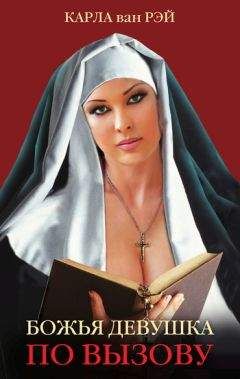Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Описание и краткое содержание "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)" читать бесплатно онлайн.
Воспоминания о лагерном и военном опыте Андрея Владимировича Трубецкого, сына писателя Владимира Сергеевича Трубецкого.
Богдан сел по следующему довольно характерному делу. В конце войны после освобождения Украины его призвали в армию. Он был единственным сыном одинокой матери, а отец пропал еще в 1937 году. Бдительный «ОКР смерш» части, где служил Богдан, почувствовал в нем «врага». Богдана арестовали и начали шить дело. Но дело никак не шилось. Тогда Богдану, которому было восемнадцать лет, связывали руки и выводили расстреливать — завязывали глаза и палили из автомата. Парень подписал все, что от него требовали, и поехал в лагерь. Приговор прочитали ему в лагере — десять лет ИТЛ.
Богдан учил меня разным профессиональным хитростям, как помочь человеку лечь в лазарет, или чтобы его не выписали. Техникой этой он владел в совершенстве. Позже, когда Богдан вернулся в лабораторию, он при мне обвел вокруг пальца начальника лагерной санчасти капитана Каплинского у него же на глазах. В лазарете лежал мнимый больной, и лагерное начальство это подозревало, а Каплинский стал проверять. В его присутствии Богдан взял кровь из пальца, а Каплинский стал считать под микроскопом лейкоциты и насчитал даже больше, чем было в богдановском анализе. Богдан взял крови вдвое больше, а развел ее тем же объемом разбавителя. Этого начальство не могло сообразить. «Больной» был оставлен.
Доктор Бубнов, выживший в пятидесятом году Владимира Павловича из лаборатории, числился инвалидом. Очень редко он появлялся в лаборатории за каким-нибудь пустяком со слабой, но медовой улыбкой на лице. Владимир Павлович встречал его более чем сухо, хотя и вежливо.
В лагере боялись дизентерии, поэтому подозреваемых клали в лазарет сразу. Заключенные это знали и симулировали, а в амбулаториях на лагпунктах это тоже знали и посылали санитара, прежде чем положить в больного, удостовериться в туалет. В лазарете же анализ должен был подтвердить болезнь. Однажды в таком образчике я увидел капли жира, что и написал по простоте душевной. Богдан корил меня за это — понос был вызван жиром, а я, вроде, разоблачал это. Хорошо, что все обошлось — анализ был вовремя изъят. Очень тонко можно было симулировать желтуху, вернее, имитировать.
Для начала мочу брали от настоящего больного, благо такие не переводились на лагпунктах. Кандидату в больные передавали таблетки акрихина, чтобы пожелтеть. Но акрихин не окрашивал глазные яблоки. Поэтому его раствор закапывали в глаза. Когда такой больной ложился в лазарет, в лаборатории в пробирку с его кровью добавляли кровь настоящего больного.
Однажды таким желтушником я сделал по его просьбе сотоварища по режимке Федю Кузнецова, плотного здоровяка, человека простецкого, но с юмором. Пролежал он тогда довольно долго. Инфекционным отделением заведовала крупная и очень толстая еще сравнительно молодая женщина, жена нового начальника санчасти. Фельдшер хирургического отделения Тенгиз Залдастанишвили прозвал ее «тетя Лошадь», и прозвище привилось. Она была равнодушным и, я бы сказал, злым человеком. Но ей было скучно, а Федя своими разговорами и поведением ее развлекал. Между ними установились такие отношения, когда госпожа позволяла существу низшему развлекать себя. Оба вели эту линию. Однажды Федя, запыхавшись, прибежал на крики больного-умалишенного (я упоминал уже, что в инфекционном отделении держали этих несчастных) и так объяснил свое появление на крик: «А я думал тут вас... тут с вами что-то делают. В таком случае меня зовите». Тете Лошади это понравилось, и она не спешила выписывать Федю, не обращала внимания на желтые подтеки, которые иногда появлялись от неосторожного закапывания акрихина в глаза.
В своих развлечения (а развлекал он и себя) Федя однажды попал в комическое положение. На обходах стал жаловаться, что трудно мочиться. Тетя Лошадь обещала вызвать хирурга Бондареву. В тот день получилось так, что весь женский синклит лазарета — четыре женщины — были в инфекционном отделении. Вызвали Федю. Он притворился заспанным и поначалу не понимал, что от него хотят. Потом стал говорить, что стесняется, что тут «гражданин начальница» и других женщин много. Тогда Бондарева предложила отойти в угол и сделать, что нужно. «Ну, это еще можно», — сказал Федя и отошел. Бондарева была близорукой и, чтоб лучше рассмотреть, наклонилась. «Что это? — вдруг сказала она. — Тут какие-то чертики нарисованы». Федя наклонился и тоже стал смотреть. «Ах, это узбек помпобыт Андрей мне нарисовал. Я спал, а он и рисовал», — и Федя повернулся показать всем остальным, а потом кинулся из комнаты.
Присутствовавший при этом хирург Карл Карлович Тиеснек рассказывал, что такого хохота он никогда еще не слышал. Добавлю, что помпобыт (крупная лагерная должность) Андрей Абдурахман был по-восточному многословен и весьма угодлив перед начальством, особенно перед врачами, и они хорошо его знали. Он по-настоящему болел желтухой и лежал в палате рядом с Федей.
Анализы, которые я делал, подписывал Владимир Павлович и, следовательно, отвечал за них. Я не имел права его подводить и всегда, когда надо было кого-нибудь положить в лазарет и для этого приписывать необходимое в анализ, я говорил Владимиру Павловичу, что и как. На фиктивные анализы он шел с большим трудом, а обманывать его я, повторяю, не мог. Поэтому я нередко бывал в затруднительном положении и выкручивался как мог, не кривя в то же время душой перед Владимиром Павловичем. Просителям иногда приходилось отказывать и объяснять, что не я главное лицо. Мне говорили: «Андрей, давай подлупим этого жидяру, мягче будет». — «Ну, что вы, ребята, он мужик хороший, меня устроил, да и земляк мой», — и дело на этом останавливалось.
Кроме нас двоих, в лаборатории был еще санитар — Николай Подколзин — маленького роста паренек из-под Курска. Числился он больным, а работал в лаборатории: мыл пробирки, стекла, следил за чистотой — обычная форма использования рабочей силы сверх штата. К своей работе мы с Владимиром Павловичем относились, естественно, с самой высокой добросовестностью (в это понятие надо включить и липовые анализы для мнимых больных). Но для нашего санитара его работа оставалась лагерной каторгой, которую отбывают. И хотя парень он был симпатичный, но на почве его нерадивости мои отношения с ним не налаживались. Позже, когда Николай попал на лагпункт, он близко сошелся с Мишей Кудиновым, и Миша передавал мне жалобы бывшего санитара: «Что он, из евреев что ли? Работать заставлял».
Иногда к нам в гости приходил художник Сергей Михайлович Мусатов. Разговорам тогда не было конца.
На каждом лагпункте был свой художник, одной из обязанностей которого было подновлять номера на заключенных. На втором лагпункте, к которому относился и лазарет, таким художником был К. И. Лебедев, пожилой, рыжеватый и суетливый человек. Лебедев писал картины и для лазарета, за что подолгу там отлеживался. Рядом с лазаретом была теплица, и Лебедев задумал написать натюрморт из овощей. Какой потом мы сделали борщ! Его долго напоминало полотно, повешенное в кабинете начальницы лазарета.
В теплице работал Иван Георгиевич Дикусар, профессор геолого-почвенного факультета МГУ, малосрочник, имевший восемь лет за то, что в 20-х годах примыкал к группе комсомольцев, поддерживающих оппозицию в партии. До посадки он был членом партии и в душе оставался им: его суждения были всегда в полном соответствии с передовой статьей «Правды» на текущий момент. Но, в сущности, он был человеком неплохим, если исключить его «правоверность». Иван Георгиевич часто бывал в лаборатории, где тайно от своего начальства Магницкого — человека малоприятного, с которым был в тяжелых отношениях, определял аскорбиновую кислоту в выращиваемых им помидорах. От анализов кое-что перепадало в рот.
В лазарете лежал один из наших режимников — Иван Лапутин с «мастыркой» (под кожу, обычно на ноге, вводился белый налет с зубов, что давало серьезное местное воспаление). По лазарету Иван ходил с палочкой, а на коленях делал себе синяки, ударяя по ним кружкой. Однажды Иван с приятелем зашли ко мне и попросили миску, а потом позвали закусить свежими помидорами. «Откуда?» — спросил я. — «Из теплицы. Пуганули какого-то старикана и набрали». Позже пришел расстроенный Дикусар. Это у него сняли экспериментальную партию помидор.
В конце пятидесятых годов я встретил Ивана Георгиевича в коридоре биолого-почвенного факультета МГУ — шла какая-то конференция почвоведов. Дикусар совсем не изменился, пожалуй, только раздобрел да костюм был добротный. А суждения были все те же, в фарватере последней передовой «Правды».
Через Владимира Павловича я познакомился с интересным человеком — Михаилом Абрамовичем Коганом. Это был уже не молодой, чуть склонный к полноте блондин, умный, симпатичный. Он имел 20 лет срока по делу ЗИСа, где в пятидесятые годы была «разоблачена» группа «диверсантов», собиравшаяся «взорвать» автозавод. Группа большая, преимущественно состоявшаяся из евреев. Шесть человек из нее были расстреляны, а вся группа была из управления завода. Коган был его главным металлургом. Следствие у него проходило в Сухановской тюрьме Тяжело. Он сидел в одиночке и терпел всяческие издевательства. Видя, что бороться со следователем бесполезно, он оговорил себя, но оговорил умно. Когда настала эра реабилитации, это ему помогло. А тогда он заявил следователю, что во вредительских целях внедрил в производство такую-то марку стали, которую нельзя было внедрять. Следователя это вполне устраивало. По окончании дела Коган увидел в материалах следствия справку своего сослуживца, подтверждающую вредительство — сталь негодная. В 1955 году на переследствии на Лубянке следователь спросил, как он мог подписать такое? Коган ответил: «Наведите справки: когда эта сталь была внедрена, когда я поступил на завод, когда сталь была снята». Оказалось, что сталь была внедрена до поступления Когана на работу и используется до сих пор.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Книги похожие на "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Трубецкой - Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)"
Отзывы читателей о книге "Пути неисповедимы (Воспоминания 1939-1955 гг.)", комментарии и мнения людей о произведении.