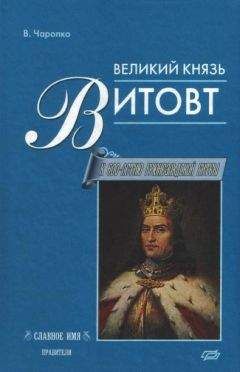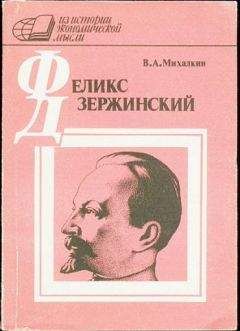Семен Подокшин - Франциск Скорина

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Франциск Скорина"
Описание и краткое содержание "Франциск Скорина" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена жизни и творчеству белорусского просветителя, мыслителя-гуманиста эпохи Возрождения Георгия (Франциска) Скорины (ок. 1490 — ок. 1551). Мировоззрение мыслителя рассматривается на широком фоне социально-экономической, политической и культурной жизни Великого княжества Литовского XVI— XVII вв. Автор показывает тесную связь Скорины с развитием общественной мысли и философия в Центральной и Западной Европе, прослеживает послескорининскую ренессансно-гуманистическую философскую традицию, представленную М. Литвином, С. Будным, А. Воланом, К. Лыщинским н др.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся историей отечественной философии и культуры.
При характеристике эпохи, в которую жил Скорина, нельзя обойти и такой весьма важный фактор культуры Великого княжества Литовского, как меценатство. Как известно, меценатство сыграло определенную положительную роль в развитии европейской культуры эпохи Возрождения. Оно по сути дела являлось попыткой образованных представителей господствующего класса реализовать платоновскую идею просвещенного правителя. Многие белорусские, украинские и литовские феодалы и богатые горожане финансировали организацию школ, типографий, приобретали древние рукописи и книги, создавали библиотеки; могущественные магнаты собирали при своих дворах поэтов, переводчиков, художников, оказывали всевозможную поддержку их деятельности и т. д. Так, книгоиздательский почин Скорины субсидировали богатые виленские горожане-белорусы Богдан Оньков и Якуб Бабич. Братские школы и типографии функционировали благодаря поддержке богатых ремесленников и купцов. Издание Брестской Библии 1563 г., подготовленное коллективом переводчиков и ученых-гуманистов, финансировал канцлер Великого княжества Литовского Миколай Радзивилл Черный, он же санкционировал основание Несвижской типографии и содействовал изданию белорусского «Катехизиса». Книгоиздание в Несвиже осуществлялось также благодаря финансовой поддержке Остафия Воловича. Своего рода культурным центром был двор князей Слуцких. Здесь была составлена одна из ранних белорусских летописей, существовала иконописная мастерская, в которой было создано несколько светских портретов в духе Ренессанса (см. 78, 78). Покровителем гуманистов и книгоиздателей в Лоске являлся магнат Ян Кишка. В конце XVI—первой половине XVII в. при дворах отпрысков бижанской линии Радзивиллов жили многие гуманисты — поэты, переводчики, философы: Андрей Рымша, Ян Радван, Ян Козакович, Соломон Рысинский, Беняш Будный, Даниил Наборовский, Збигнев Морштын, Самуэль Пшипковский и другие. Меценатство сыграло определенную положительную роль в начальный период контрреформации, частично ограждая прогрессивных культурных деятелей Великого княжества Литовского от фанатизма иезуитов.
Приведем весьма характерный пример плодотворного культурного сотрудничества гуманистов и меценатов. В 1577 г. в белорусском городе Лоске впервые было переведено на польский язык сочинение Анджея Фрыча Моджевского «Об исправлении Речи Посполитой». Переводчиком являлся поэт, музыкант, историк Киприан Базилик. Инициаторами перевода выступили А. Волан, написавший латинское «Предисловие к Фрычу», и С. Будный, поместивший в книге Моджевского обширное «Предисловие к читателям». Несколько стихотворных эпиграмм написал к сочинению М. Стрыйковский. Все они являлись виднейшими гуманистами, писателями и общественными деятелями Великого княжества Литовского. Перевод и издание сочинения Моджевского финансировал полоцкий воевода Миколай Олехнович Монвид Дорогостайский. Книга была напечатана в Лоской типографии, принадлежавшей белорусскому магнату Яну Кишке, книгопечатником-гуманистом Яном Карцаном из Велички. Причем инициаторы издания сочинения Моджевского рассматривали свою деятельность не как простую дань интеллектуально-гуманистической увлеченности, а как служение насущным общественным интересам, общему благу (см. 168, 213).
Следует отметить, что институт магнатского меценатства носил феодально-классовый характер. В то же время, по-видимому, недостаточно ограничиться только классовой оценкой меценатства. Последнее как социально-культурное явление конкретной эпохи несколько глубже по своей сущности и шире по значению. Чтобы меценатство утвердилось в качестве активно функционирующего института, в определенных кругах господствующего класса должен был быть достигнут довольно высокий уровень общественного и индивидуального сознания, должно было выработаться понимание значения духовных ценностей, роли образования, книгопечатания, литературы, науки, искусства и культуры в целом в жизни общества и народа.
Гуманисты Великого княжества Литовского всячески стремились поддержать меценатский энтузиазм феодалов, развить в них чувство уважения к культурным ценностям, знанию, поэзии, философии, всячески поощряли и побуждали их протекционистскую деятельность. С этой целью они посвящали им свои творения, в предисловиях апеллировали к их разуму, учености, нравственным и гражданским добродетелям, патриотизму, любви к античности и т. д. В соответствии с феодальным этикетом гуманисты нередко прибегали к галантной лести, однако они умели сохранять чувство собственного достоинства. Посвящения, стихотворные эпиграммы в честь меценатов, непременно предварявшие сочинения гуманистов, не являлись простыми панегириками, а содержали и определенную гуманистическую программу требований, начертанную для феодала-мецената. О том, как некоторые гуманисты Великого княжества Литовского понимали сущность меценатства, свидетельствует посвящение Беняша Будного новогрудскому воеводе Федору Скумину, помещенное в изданной в 1595 г. в Вильно книге Цицерона «О старости». «Среди людей, занимающихся науками,— писал Б. Будный, обращаясь к своему меценату,— существует древний обычай посвящать выходящие в свет книги своим благодетелям (выражая таким образом нм свою благодарность), и особенно тем из них, о которых ходит слава, что у них в большом уважении находятся музы; или же другим знатным людям, уважающим науки... Так, знаменитый философ Аристотель посвятил некоторые написанные им сочинения своему государю; Вергилий посвятил свои „Георгики“ знатному вельможе Меценату; Цицерон посвящал свои произведения знатным людям. Я также решил последовать их примеру... Я надеюсь, что благодаря посвящению к этим книгам проявят интерес и те, кто не умеет по-латински читать. Необходимо, чтобы эти люди видели, что занятие науками и чтение занимают в Вашей деятельности не последнее место, ибо, как известно, обычно людям нравится заниматься тем, что в почете у знатных особ и панов» (177, 1—2). В предисловии к трактату Цицерона «О дружбе», посвященном белорусскому феодалу-меценату Адаму Хрептовичу, Б. Будный обосновывает мысль о том, что не столько «служители муз» зависят от меценатов, сколько сами меценаты обязаны «служителям муз», ибо последние «своей ученостью являются для них украшением, награждают их неподвластными тлену дарами и бессмертной славой» (см. 176). Не эти ли мысли внушал Уильям Шекспир своему покровителю графу Саутгэмптону?
С эпохой Скорины связано становление и развитие белорусского языка, национальной письменности, в частности литературы. Как правильно отмечает В. М. Конон, Скориной была вполне осознана важность родного языка не только как носителя культуры, но и как фактора, стабилизирующего целостность народа (см. 82, 13). В течение XIV—XV вв. белорусский язык обособляется в качестве самостоятельного и становится государственным языком Великого княжества Литовского. Вплоть до конца XVII в. (т. е. до того времени, когда в 1696 г. директивой всеобщей конфедерации сословий Речи Посполитой белорусский язык был исключен из официального употребления и было принято постановление, что «все решения должны составляться на польском языке») (23, 362) белорусский язык являлся официальным языком государственных учреждений, судебных органов, городских магистратов Великого княжества Литовского. На белорусском языке в основном велась вся письменная документация, составлялись великокняжеские грамоты, привилеи, законодательные акты, предписания и т. д. В частности, это получило отражение в Статуте Великого княжества Литовского 1588 г., где записано: «Писар земский мает по руску, литерами и словы рускими, вси листы, выписы и позвы писати, а не иншым езыком и словы» (86, 165). Не только для белорусских, но и для многих литовских феодалов белорусский язык, по крайней мере в XV—XVII вв., являлся языком общения, официальной и частной переписки и т. д. Выдающимися памятниками белорусского делового языка, общественно-политической и правовой мысли рассматриваемой эпохи являются Статуты Великого княжества Литовского (1529, 1566, 1588), «Литовская метрика» (архив канцелярии Великого княжества Литовского) и др. (см. 120, 647—656).
Возникновение Статутов было связано с характерным для эпохи Возрождения стремлением к укреплению государственно-правового суверенитета страны посредством кодификации и унификации права. Статуты создавались на основе обычного права белорусских и литовских земель, великокняжеских привилеев, статей Русской Правды, рецепции некоторых норм римского права, приспособленных к конкретным социально-политическим условиям Великого княжества Литовского (см. 17, 71—93. 154, 57—70). Философско-идеологические веяния эпохи Возрождения наиболее ярко выражены в III Статуте (1588 г.). Как утверждает Ю. Бардах, он создавался под определенным влиянием шляхетского мнения, «руководимого в то время главным образом кальвинистами, а также арианами» (17, 82). Редакторами III Статута были гуманистически образованные магнаты-кальвинисты Остафий Волович, Лев Сапега и др. В предисловиях к III Статуту Сапега обосновывал мысль о том, что благополучие и свобода граждан могут быть гарантированы лишь в правовом государстве, что закон должен главенствовать не только над подданными, но и над правителями. «А про то,— пишет Сапега,— он, великий и зацнын филозоф греческий Арыстотелес, поведил, же там бельлуа, а по нашому дикое звера, пануеть, где человек водлуг уподобанья своего владность свою ростегаеть, а где опять право, або статут, гору маеть, там сам бог всим владнеть. А тая того есть причина, же право есть, яко его другий зацный мудрец выславил, оным правдивым розсудком а мудрым умыслу чоловечого баченьем, которым пан бог натуру чоловечую обдарыти рачыл, абы водлуг того пристойного а мудрого баченья жывот чоловечий так справовал, яко бы се за тым, што есть почстивого, завжды удавал, а што непочстивого, абы се того выстерегал» (86, 9—10). И дальше: «Бо для того права суть постановлены, абы можному и потужному не все было вольно чынити, яко Цыцеро поведил, иж естесмо невольниками прав для того, абысьмы вольности уживати могли... бо тот цель и скуток усих прав есть и маеть быти на свете, абы кождый добрую славу свою, здововье и маетность в целости мел, а на том всем жадного ущирбку не терпел... бо не только сусед а сполный наш обыватель в отчизне, але и сам господар, пан наш, жадное звирхности над нами заживати не можеть, одно толко, колко ему право допущаеть» (там же, 15—16). Столь пространное цитирование обусловлено следующим обстоятельством: в предисловиях Сапеги, да и в самом III Статуте Великого княжества Литовского получили отражение политико-правовые идеи, выдвигавшиеся отечественными мыслителями, в частности Скориной и особенно Андреем Воланом, а также польским мыслителем Анджеем Фрычем Моджевским. Результатом влияния идей Возрождения следует считать также статьи III Статута, санкционирующие в Великом княжестве Литовском религиозную терпимость.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Франциск Скорина"
Книги похожие на "Франциск Скорина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Семен Подокшин - Франциск Скорина"
Отзывы читателей о книге "Франциск Скорина", комментарии и мнения людей о произведении.