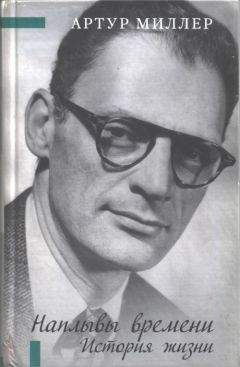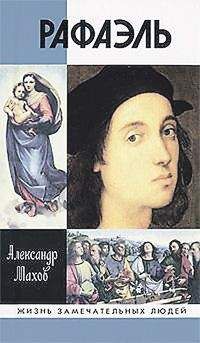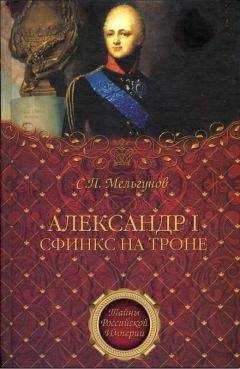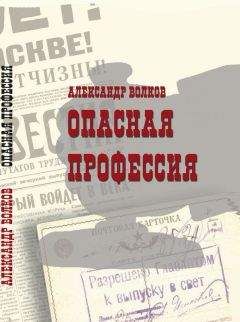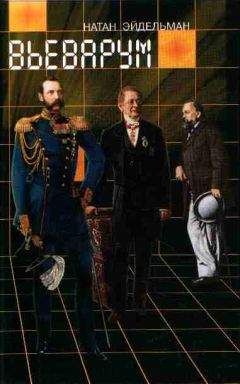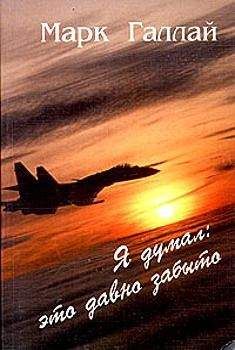Александр Борин - Проскочившее поколение

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Проскочившее поколение"
Описание и краткое содержание "Проскочившее поколение" читать бесплатно онлайн.
Александр Борин, известный журналист и обозреватель «Литературной газеты», рассказывает о своей юности, о людях, с которыми сводила его судьба. С кем-то из них отношения ограничивались простым знакомством, с другими устанавливалась долгая дружба. Среди них писатели Александр Бек, Константин Симонов, Илья Зверев, Леонид Лиходеев, Камил Икрамов, летчик-испытатель Марк Галлай, историк Натан Эйдельман, хирург Гавриил Илизаров, внук великого писателя Андрей Достоевский и многие другие.
В газету А. Борин писал статьи по вопросам права, однако некоторые из них так и не увидели свет. Читатель узнает, отчего это происходило и какова закулисная история многих очерков, что и почему в них осталось за кадром, не попало на газетную полосу. Отдельная глава посвящена работе Комиссии по вопросам помилования при президенте Российской Федерации, в которой работал автор.
Те, кто тогда не жил, не приучил себя к тому, что немота или полунемота естественное человеческое состояние, могут, конечно, так рассуждать. Но мы даже самые малые крохи свободы воспринимали как настоящее чудо, как неожиданный подарок судьбы. Не лишали нас этого ощущения ни злобное фиглярство Хрущева на выставке художников в Манеже, ни позорная выволочка, устроенная художественной интеллигенции на встрече в Кремле. Чему тут удивляться? Это в порядке вещей. Зато ведь напечатан «Один день Ивана Денисовича» Солженицына.
Для меня это время знаменательно прежде всего тем, что впервые, кажется, между понятиями — «так надо» и «я хочу» — уже не всякий раз пролегала непреодолимая пропасть, бывало, что они даже сливались, совпадали. О тупике, в который загнана наша экономика, о ее парадоксах и абсурдах, о бессилии руководителей предприятий можно было теперь говорить почти открыто. Хрущевская, а затем и косыгинская реформы ставили своей целью навести в существующем бардаке порядок. Тема эта меня по-настоящему волновала, и — удивительно! — редакциям такие материалы тоже вдруг понадобились.
Разве прежде я мог быть уверен, что газета напечатает о любопытном разговоре с министром местной промышленности Латвии? Он рассказывал мне, в каком плачевном состоянии находятся его заводы. «Они нищие, у них нет денег?» — предположил я. Министр расхохотался: «Деньги? А зачем им деньги. Денег у меня навалом. Только что я смогу на них купить, если на каждый гвоздь спускается разнарядка из Москвы?» И вот министр проявляет чудеса смекалки и сообразительности. Он выпускает чайник, который, закипая, не свистит, а кукарекает петухом. Потребителю такое кукареканье ни к чему. Но министр везет свое изделие в Москву, в учреждение, спускающее наряды. Там слушают и очень веселятся: «Смотри ты, петух настоящий, сейчас куру топтать будет», и на радостях выдают дополнительные наряды на дефицитнейший металл или медную проволоку.
В Ленинграде, заранее договорившись о встрече с председателем совнархоза (они были созданы при Хрущеве) Афанасьевым, я пришел в его приемную в семь вечера. Просидел там до двенадцати ночи. У Афанасьева шло совещание. Вышедший оттуда работник доверительно мне сказал: «Все прикидывают, насколько ленинградская промышленность перевыполнила квартальный план, на полтора процента или на один и девять десятых». «Подсчитать не могут?» — спросил я. Он удивился: «Да кто же подсчитывает? Гадают, какая цифра будет приличнее смотреться».
Теперь статьи обо всем этом охотно печатала «Литературная газета». Впрочем, требовалось тут же сказать, что экономическая реформа ликвидирует подобные нелепости и наведет наконец полный порядок. Однако вера в благополучный исход реформы у людей сведущих с каждым днем таяла.
Я встретился с министром приборостроения Рудневым. Его министерство первым перешло на хозрасчет. На мой вопрос, чего он ждет от экономической реформы, Руднев спросил: «Хотите расскажу вам байку? Только соленая». — «Хочу», — попросил я. «Можно прийти к женщине, снять штаны и заняться любовью, — сказал он, — это нормально. Можно не снимать штаны, выпить с ней чаю и уйти. Это тоже совершенно нормально. Но прийти к женщине, снять штаны и сесть пить чай — это абсолютно ненормально. Вот так и мы с нашей реформой. Штаны сняли, а дальше что?»
Он оказался прав, через несколько лет тогдашняя экономическая реформа постепенно захлебнулась, сошла на нет. Предоставление директорам заводов даже самой урезанной самостоятельности, освобождение их от некоторых дутых, пустых производственных показателей — все это было совсем не ко двору. Партийное руководство, и в центре и на местах, сперва тайно, а затем и открыто всеми силами реформу тормозило. Ожидались серьезные, коренные изменения, сдвиги, а мы — «сели пить чай». Пройдет немало лет, и станет ясно, что реформирование сложившейся системы все равно было бы обречено на провал, система реформированию не поддается. Но тогда казалось: вот осуществим реформу, и страна расцветет.
Связывались с ней не только надежды на рост экономики. Новый подход давал возможность выступить и против насаждавшегося десятилетиями культа самоограничения и бедности, защитить естественное желание человека быть состоятельным и богатым. Статьи мои в «Литературке» так и назывались: «Психология гроша и миллиона», «Хороший „длинный рубль“»…
Через несколько дней после опубликования этой статьи я зашел в кабинет к заведующей отделом Валентине Филипповне Елисеевой. Там сидел человек, с которым мы не были знакомы, но которого знала тогда вся страна, первый наш фельетонист Леонид Лиходеев. «Вы незнакомы?» — спросила Елисеева. Лиходеев протянул руку и чуть надменно произнес: «Брат Лиходеева». Елисеева, назвав меня, поинтересовалась, читал ли он про «длинный рубль». «А, — сказал Лиходеев, — тогда давайте знакомиться, мы единомышленники».
Так началось наше знакомство, переросшее скоро в очень близкую, на всю жизнь, дружбу.
Лиходеев против Лиходеева
На фронт Леонид Лиходеев ушел добровольцем. Как белобилетник, больной туберкулезом, призыву он не подлежал. Жив он остался чудом. Осенью 1942 года его повели на расстрел — не немцы, наши. Произошло это так. Месяц назад Сталин подписал свой знаменитый приказ № 227, предписывавший на месте расстреливать всех паникеров, трусов и предателей. Ни паникером, ни трусом, ни предателем Лиходеев, понятно, не был. Но командир части, в которой Лёня в ту пору служил, накануне вызвал его вместе с офицером связи и велел им пробраться по азимуту в такую-то точку (он показал ее на карте), где предположительно мог находиться штаб армии, и вручить там пакеты.
На вторые сутки пути по горным кавказским тропам их остановила группа наших военных. Позже Лиходеев описал эту встречу:
«Я не помню лица того полковника, я помню только четыре шпалы под пьяным лицом… Вспыхнул черный рот и я услышал: „Кто такие?“
Мой товарищ, как старший по званию (а он был целый лейтенант), откозырял и доложил, какой мы части и куда идем. „Ага-а, предатели, — вспыхнул черный рот. — Расстрелять!“ И прежде чем я успел осознать то, что услышал, раздался поспешный, торопящий, нетерпеливый и испуганный голос: „Разрешите исполнять, товарищ полковник?“ — „Валяй!“
…Это был безусый школяр в безразмерной шинели. Пилотка его неуверенно сидела на высоко торчащих черных волосах. У него были толстые, очень толстые роговые очки. Он неумело толкнул меня в бок коротким прикладом автомата Дегтярева. Меня никогда не водили под конвоем, меня никогда не водили на расстрел, и я до сих пор не могу понять, почему я привычно завел руки за спину, как опытный арестант… На тропинке этот близорукий тощий парень тихо сказал: „Ребята, сейчас я буду стрелять… не бойтесь, в воздух… а вы бегите… Через каньон. Кажется, там наши…“»
Не окажись тогда, в 1942-ом, рядом с пьяным полковником безусого школяра, в одну секунду, может быть, не стало бы Леонида Лиходеева, замечательного, самобытного писателя, прекрасного, порядочного человека, моего друга.
Лиходеев приехал в Москву в 1949 году в самый разгар борьбы с космополитизмом. Естественно, его нигде не печатали, и очень часто у него не было даже гроша в кармане. Иной раз удавалось заработать тем, что, как и Зверев, писал очерки за так называемых «бывалых людей».
Однажды Лёня работал с одним капитаном дальнего плавания. Они подружились, и капитан предложил ему место замполита на своем корабле. Лиходеев сразу же согласился. Осталось утвердить кандидатуру в политотделе Министерства морского флота. Как только Лиходеев вошел к начальнику политотдела, тот вскочил, обнял писателя и, вздохнув, сказал: «Сынок, да ты же, оказывается, еврей! Вот беда-то какая. Ах, беда, беда. А я смотрю — такой парень, такой хороший, а еврей!»
Отплытие в море, естественно, не состоялось.
Еще на фронте Лёня стал писать стихи. Были они совсем неплохие, многие всю жизнь пишут не лучше и прекрасно процветают. Как поэта его приняли в Союз писателей. Вышла одна его поэтическая книжка, потом другая. Радуйся, срывай аплодисменты. Но Лиходеев неожиданно порывает с поэзией. Начинает писать фельетоны. И здесь его тоже ожидает громкий успех, он становится первым, лучшим фельетонистом страны. Популярность его огромна. Имя его не сходит с газетных страниц.
Однако в декабре 1966 года в журнале «Советская печать» вдруг появляется его статья, озаглавленная: «Лиходеев против Лиходеева». Речь в ней шла о том, что за семь лет до этого Лиходеев напечатал фельетон против стяжательства. Кто только не вытирал тогда ноги об это гнусное, позорное, несовместимое с нашим строем явление, кто, борясь со стяжательством, не наживал себе богатых каменных хором. А Лиходеев, заклеймив стяжательство, крепко задумался. «Мое пионерское прошлое дало себя знать, когда я писал этот фельетон, — признавался он через семь лет. — Детская нетерпимость сделала свое дело… Мы не замечали или не хотели замечать элементарной экономической несуразицы, которую поставляло время…» Он говорил о том, какие беды порождает презрение к частной собственности, как рынок, зашедший в подполье, порождает стихию в таких отвратительных формах, о которых «ни в законе сказать, ни в фельетоне описать…» И сказано это было, повторяю, в 1966-ом, до гайдаровских реформ оставалось еще четверть века.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Проскочившее поколение"
Книги похожие на "Проскочившее поколение" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Борин - Проскочившее поколение"
Отзывы читателей о книге "Проскочившее поколение", комментарии и мнения людей о произведении.