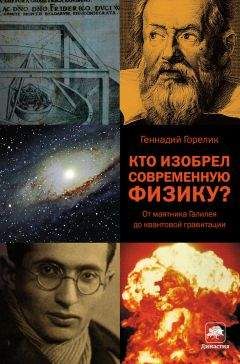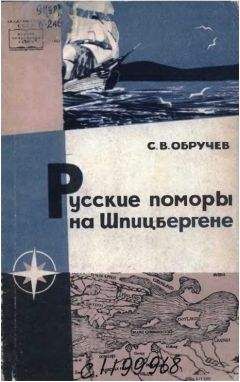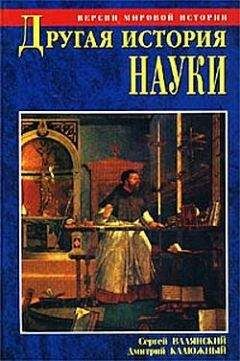Ян Левченко - Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии"
Описание и краткое содержание "Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии" читать бесплатно онлайн.
Монография посвящена взаимным превращениям литературы и науки в некоторых текстах представителей петербургской ветви формальной школы, возникшей в литературоведении накануне революции. Рассматриваются проблемы методологической и философской генеалогии формалистов, конструирование биографии и дружеского профессионального круга, новаторские опыты «самосознания» критического письма у Виктора Шкловского и работа Бориса Эйхенбаума в интимных прозаических жанрах. Основным героем книги вновь, как и для самих формалистов на раннем этапе их бытования, является литературность – ныне отброшенный и маловразумительный концепт, который в действительности относится к их собственному научному творчеству.
Для широкого круга гуманитариев – культурологов, филологов, историков (искусства).
Как было показано в предыдущей главе, тяготение Шкловского к сближению и взаимной подмене языка-объекта и метаязыка нашло здесь достаточно любопытное воплощение. Стерн, чью ироничную болтовню Шкловский воспринял как проявление беспримесной литературности, очень быстро оказался ориентиром для Шкловского в деле текстопорождения. Существенно, что испытательным полигоном для построения стернианского сюжета послужил именно жанр мемуаров. Воспоминания о революции, войне и Петрограде времен военного коммунизма строятся так, что представленные в них факты демонстративно подчинены исключительно литературным конвенциям, хотя и сохраняют при этом связь с историей. Шкловский раскрывает смысл идиомы «писать историю», играя на омонимичности русского перевода терминов Geschichte и Histone. В СП начинается, собственно, то конструирование биографии, которое впоследствии было адекватно описано в русле «бытологии» Бориса Эйхенбаума (см. главу IX). В СП Шкловский указал на двойственность своего присутствия в тексте: «Я рассказываю о событиях и приготовляю из себя для потомства препарат» [Шкловский, 2002, с. 39].
Путешественник, убегающий от себя навстречу событиям, не имеет конкретной цели, его движение обусловлено внешними причинами. Лейтмотивом является возрастающая запутанность, ошибочность происходящего. По мнению рассказчика, «Россия придумала большевиков как сон, как мотивировку бегства и расхищения, большевики же не виновны в том, что приснились» [Там же, с. 769].
Апофеозом ошибки, игры злокозненных обстоятельств оказывается вынужденная эмиграция – то настоящее, в котором находится повествователь в финале СП: «А сейчас живу среди эмигрантов и сам обращаюсь в тень между теней. Горек в Берлине шницель по-венски!» [Там же, с. 266]. В ретроспективе, оформившейся уже в Берлине, и само путешествие воспринимается как отклонение от правильного, положительно маркированного жизненного пути. Так и происходит в наиболее полном берлинском издании 1923 г., объединяющем в единое целое «Революцию и фронт», «Письменный стол» и «Эпилог».
Изданная же отдельной книжкой в Петрограде в 1921 г. первая часть «Революция и фронт» написана эсером и футуристом, возлагающим на революцию большие надежды: «Я был счастлив вместе с этими толпами. Это была Пасха и веселый, масленичный, наивный, безалаберный рай» [Там же, с. 29]. Все неправильное, ошибочное сконцентрировано вовне и не относится к личности рассказчика, напротив, он наделяется правом исправлять мир, будучи послан на фронт правительственным комиссаром, т. е. агитатором за войну до победного конца. Аналогичный настрой отличает и небольшую книжку «Эпилог», имеющую подзаголовок «Конец книги “Революция и фронт”», которая была опубликована накануне бегства за границу (весна 1922 г.) с посвящением «Акиму Волынскому». В составе СП этот фрагмент отодвинут в конец второй части, что уже в какой-то мере меняет его прагматику. Существенно, что до включения обеих книг в берлинское издание действующий в них рассказчик является носителем «правильного», позитивного начала, скорее, мир вокруг него «не прав». В итоговой структуре СП знак меняется на противоположный.
В берлинской редакции вставной текст «Эпилога» разрывается на две неравные части и снабжается соответствующим обрамлением. Несколько раз текст перебивается более поздними вставками, которые либо деформируют нарративное время: «…так и умру на Невском против Казанского собора. Так писал я в Петербурге; теперь место предполагаемой смерти изменено: я умру в летучем гробу унтергрунда» [Там же, с. 240], – либо изменяют модус повествования, вводя в текст сентиментальные настроения, характерные для Шкловского в эмиграции, но не в Петербурге: «Вот я впустил в свою книжку “Серапионов”. Жил с ними в одном доме. И я думаю, что Главное политическое управление не рассердится на них за то, что я пил с ними чай» [Там же, с. 258]. Темой «Эпилога», взятого по отдельности, является война айсоров с персами, а рассказчиком выступает айсор Лазарь Зервандов, чей текст «отредактирован»[104] Шкловским. Следует напомнить финал «Эпилога», почти совпадающий с финалом берлинского издания (исключая недавно упомянутый «горький шницель», который отражает новую эмигрантскую тональность). Завершая повествование новеллой о спасении айсорских детей доктором Шедом из американской миссии, рассказчик признается, что растрогался: «Нет, не нужно мне было писать этого. Я согрел свое сердце. Оно болит». Но тут же с пафосом обращается к самому доктору, как бы обобщая опыт, приобретенный за время странствий: «Доктор Шед, я человек с Востока, потому что идет Восток от Пскова, а раньше от Вержболова, и идет Восток, как и прежде, от русской границы до трех океанов» [Там же, с. 276]. Доктор – подлинный герой в отличие от русских, бросивших айсоров. Смена нарратора легитимирует смену оценки. Если основная линия СП состоит в почти синхронном отражении событий, то «последние 30 страниц эта же техника реализуется противоположным образом: это прошлое, которое обманывает себя в настоящем» [Segre, 1973, р. 134]. Позднейшая оценка все сильнее вклинивается в повествование, которому историк склонен был бы довериться на первой сотне страниц. Эффект фикционализации отражает недовольство повествователя как самими событиями, так и своим в них участием.
Фигура доктора, подбирающего детей в свой шарабан, отсылает к Ною, мотив которого использовался до этого рассказчиком применительно к себе самому в книге «Революция и фронт». В связи с тем что «Эпилог» вышел незадолго до процесса эсеров еще в период пребывания Шкловского в Петербурге, неминуемо вспоминается Дом искусств (ДИСК), «сумасшедший корабль», описанный Ольгой Форш, где жил в это время Шкловский. Рядом с молодыми литераторами квартировали писатели и критики старшего поколения и среди них Аким Волынский. О нем пишет Борис Эйхенбаум, проявивший, кстати, склонность к метафикции еще в раннем очерке об О’Генри [Гребер, 1996, с. 10]: «Фанатизм его духа и фантастичность тогдашней жизни вступили в какой-то своеобразный союз – имя Волынского стало звучать как-то по-новому. В Доме Искусств (на Мойке), который был тогда Ноевым Ковчегом для спасающихся от потопа писателей, Волынский казался самим Ноем, кормчим этого утлого судна, неизвестно куда плывущего. Шкловский жил там наверху веселым юнгой: пел, писал, шутил и помогал. А внизу, в большой комнате, беззвучно жил Волынский: не писал, а мудрствовал, как чернокнижник, над древними текстами: изучал Евангелие и античные танцы. Ему необходимо было что-то доказать, чему никто не верил» [Эйхенбаум, 1928, с. 44–45]. Такое восприятие ДИСКа разделялось (хотя и с диаметрально противоположных позиций) деятелями победившей культуры. Так, в рецензии на «Книжный угол» со статьей Эйхенбаума «5=100», едко говорится, что формалисты – это «самая интересная группа литературных «зверей», спасшихся от потопа <…> в свой книжный угол» [Загорский, 1922, с. 18–19]. Возможно, позднейшая метафора Берлина как эмигрантского зоопарка в Ц связана и с этой малозаметной деталью.
В приведенном фрагменте Эйхенбаум, вероятно, ориентируется на «Эпилог» Шкловского, в пользу чего говорит упоминание легенды о Ное, а также подхватывание важного для Шкловского тезиса о «фантастичности» жизни. Сравним следующий фрагмент СП: «Эйхенбаум говорит, – свидетельствует рассказчик, – что главное отличие революционной жизни от обычной то, что все ощущается. Жизнь стала искусством» [Шкловский, 2002, с. 260]. Значимо и прямое сопоставление Волынского со Шкловским как Ноя и «веселого юнги». Мудрость первого соответствует веселости второго. Шкловский такой же фанатик своего дела, доказывающий то, чему поначалу никто не верит. Так же как Волынский, он доктринер и любитель абстрактных построений, эрудит и возмутитель спокойствия, любящий спор ради спора[105]. Шкловский и сам, как известно, сопоставляет себя с Ноем в СП, поэтому посвящение «Акиму Волынскому», предваряющее текст «Эпилога», может быть истолковано как свернутый диалог.
Полемизируя с Волынским и в то же время чувствуя в нем «своего» (возможно, определенную роль сыграла и топонимическая перекличка фамилий, актуализирующая происхождение своих носителей), Шкловский осуществляет свой излюбленный прием сближения внешне далеких понятий: себя (известного авангардиста) и академиста Волынского[106]. При этом акцентируются заслуги «настоящего» Ноя, будь то спаситель детей доктор Шед или патриарх Дома писателей Волынский, ибо они суть хранители культуры, человеческой и книжной соответственно. Шкловский же играет титулом спасителя, как и со всей культурой, демонстрируя здесь унаследованную от Розанова двуликость[107]. Однако игра – «веселое дело разрушения» [Шкловский, 1923 (а), с. 220] – это только остранение культуры, в отличие от варварского эпигонства большевиков. Таким образом, в «Эпилоге» миссия «исправления» перепоручается доктору Шеду, а сам рассказчик отодвигается на вторые роли. Включение «Эпилога» в берлинское издание существенно меняет акценты: тема айсоров включается в контекст бегства рассказчика из России. Таким образом, уже он, а не мир вокруг оказывается в неправильном, болезненно смещенном состоянии.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии"
Книги похожие на "Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ян Левченко - Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии"
Отзывы читателей о книге "Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии", комментарии и мнения людей о произведении.