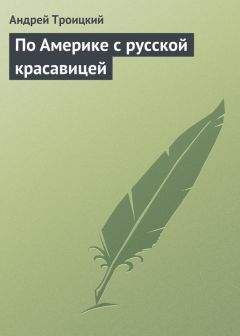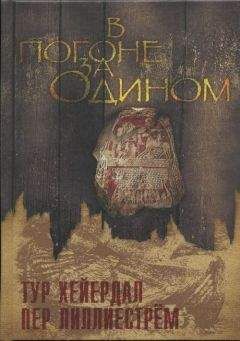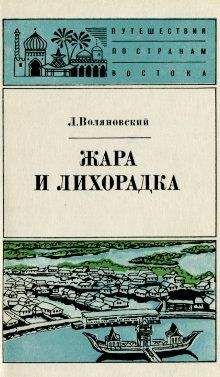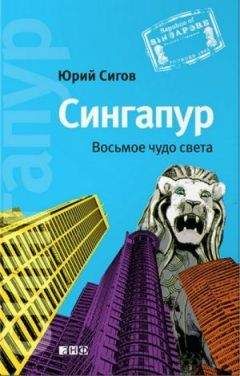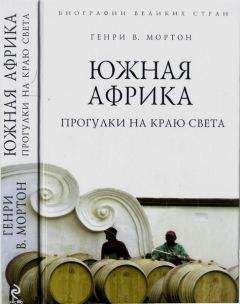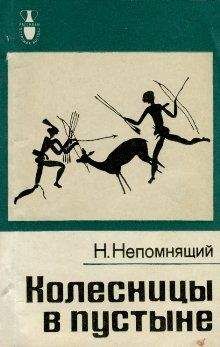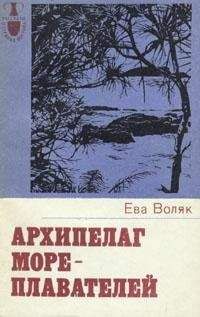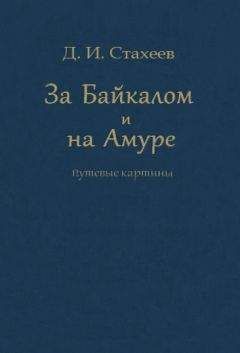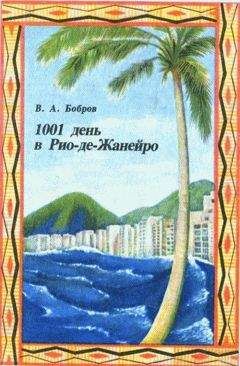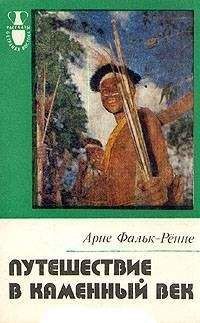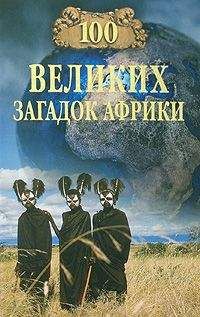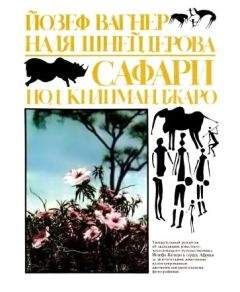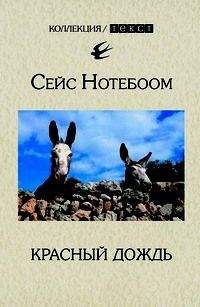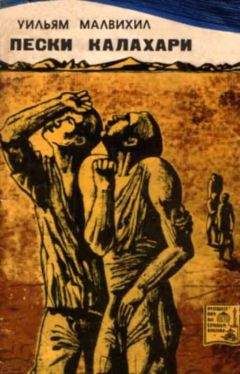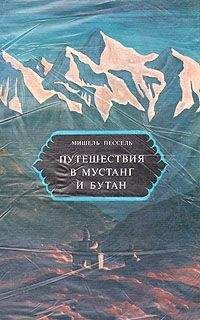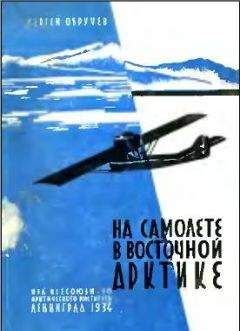Сергей Кулик - Черный феникс. Африканское сафари

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Черный феникс. Африканское сафари"
Описание и краткое содержание "Черный феникс. Африканское сафари" читать бесплатно онлайн.
Писатель-африканист, посвятивший изучению Черного континента многие годы жизни, рассказывает о самобытных традициях народов Южной и Восточной Африки.
Читатель побывает в древнем Асуме, увидит архитектуру старинных городов, познакомится с обычаями и укладом жизни пигмеев, нилотов и бушменов, узнает о многих тайных ритуалах, какие редко кому из европейцев удавалось увидеть. Быт далеких предков соседствует с современной жизнью.
— Вот оно, на самой вершине холма Хедабу, — объяснил мне полицейский. — Но комиссара сегодня нет в городе. А у нас здесь теперь открыли музей.
Где-то недалеко, с соседнего минарета, пронзительно и заунывно кричал муэдзин, созывая правоверных в мечеть. Распрощавшись с полицейским, предусмотрительно проверившим мои документы, я пошел на его голос и вскоре очутился в лабиринте темных улочек, заполненных суетливыми огоньками карманных фонарей. Фонари носят с собой прохожие, чтобы не разбить друг другу лбы в предмолитвенной кутерьме уже по-ночному темного города. Электричество пришло сюда лишь в 1969 году и еще не успело проникнуть во все улочки и закоулки древнего Ламу.
Расталкивая толпу, проехал какой-то местный богатей на осле, на шее которого болталась лампа. Из одной двери в другую привидениями проскользнули две женщины в черных атласных покрывалах — буибуи. Нежным звоном колокольчиков известил о своем приближении разносчик воды. «Кофе! Кофе! Свежая халва!» — кричал уличный продавец, мелодично, словно кастаньетами, ударяя одну о другую кофейными чашечками.
У входа в мечеть стояло еще несколько ослов с лампами: видно, такой транспорт в безавтомобильном Ламу довольно обычен. Мужчины заходили во двор, снимали обувь, расстилали принесенные с собой циновки, падали на колени и принимались бить поклоны Аллаху. Почти все — в длинных до пят рубахах-канзах, белых тюбетейках-кофиях, реже — в фесках или тюрбанах, почти все — с окладистыми бородами. Арабы? Нет, черные как смоль, с отнюдь не «классическими» чертами лица, обыкновенные африканцы. Африканцы-мусульмане из тех, кого обычно называют суахили, что в переводе означает «прибрежные люди», «жители побережья».
Кончилась молитва — еще больше народу появилось в темных улочках. В девять вечера открылись магазины, и женщины отправились выбирать себе наряды, торговаться и просто глазеть. Не продуваемую морскими ветрами Харамбе-авеню заполнил чад шипящего над мангалами мяса. Из каждого окна доносилась своя мелодия — суахилийская, арабская, индийская. Жизнь в этом, казалось бы, захолустном городке была куда оживленнее, чем в иной африканской столице.
Я наелся «кебабов» из козлятины, отведал печеных бататов, кофе с корицей, кокосового вина и вернулся в «Махарус». Но вскоре убедился, что заснуть в «моем раю» — дело немыслимое. Уличных торговцев становилось все больше, а музыка звучала все громче.
Какое-то нервное возбуждение охватило меня. Хотелось вновь смешаться с этой толпой, ходить по этим улицам, смотреть, впитывать, узнавать. В голове вертелась назойливая фраза: «Ламу… Ведь это Ламу…» За этим названием для меня скрывалась близость самых древних из известных нам в приэкваториальной Африке городов, редкая для Черного континента возможность проследить богатую интереснейшими событиями средневековую историю огромного региона, перипетии времен Великих географических открытий и на фоне их — становление самобытной суахилийской цивилизации, цитаделью которой и были острова архипелага Ламу.
К полуночи я забрел в по-деревенски тихий квартал глинобитных домов, крадучись пробрался мимо остервенело лаявших собак, лягавшихся ослов и вышел к океану. Шустрые белые крабики, едва заметив мою тень, бросились зарываться в песок.
Под пальмами на берегу, куда не добирается прилив, стояли огромные доу с разрисованной кормой. Я ухватился за свисавший с борта канат и забрался в одну из лодок. Она называлась «Хадрамаут» и пришла из Мукаллы, некогда пиратского города и центра контрабанды на аравийском побережье. Пришла, подгоняемая благодатными муссонами — ветрами, которые, дуя строго по расписанию, составленному самой природой, на протяжении тысячелетий наполняли паруса судов, совершавших челночные плавания из Аравии и Индии в Восточную Африку и обратно.
Я сидел в старой лодке, подставив лицо свежему ночному бризу, и думал о том, что когда-то, давным-давно, такой муссон пригнал к африканскому берегу такую же доу, дав возможность людям далеких восточных стран впервые завязать обмен с местными африканскими племенами. Так возникла торговля, давшая толчок развитию суахилийских городов-государств.
Городов было много, столетиями они возникали и умирали вдоль восточноафриканского побережья, на ослепительно белом песке коралловых пляжей, под покровом шелестящих пальм. У них была разная судьба, но почти всех объединяло одно: они создавались на островах. Узкий пролив, отделявший остров-государство от материка, не был помехой для мореходов и купцов, пересекавших Индийский океан. Но до поры до времени он служил надежной защитой от набегов воинственных и диких племен, наведывавшихся из внутренних районов на побережье.
Однако никакому из этих городов, несмотря на величие и могущество, не суждено было сыграть в истории суахилийского мира той выдающейся роли, которая досталась Ламу. Когда связи с Востоком еще только устанавливались и мореходы древних морей предпринимали лишь робкие попытки выйти в Индийский океан, острова архипелага, как самые северные и, следовательно, наиболее близко расположенные к Аравии, оказались для них и наиболее доступными. Вот почему первые торговые контакты, впоследствии создавшие стимулы для появления и развития первых известных нам городов с преобладающим негроидным населением, возникли именно здесь. Затем, когда в XV–XVII веках восточно-африканское побережье было разорено португальцами, географическое положение вновь спасло Ламу. Теперь самая северная часть суахилийского мира оказалась в наибольшем отдалении от южного, находившегося в Мозамбике центра европейской колонизации, от больше всего интересовавших Лиссабон путей в Индию. Португальцы наведывались на острова Ламу, грабили и разоряли их города, но своего постоянного политического и экономического присутствия установить им там так и не удалось.
Затем португальцев изгнали, и верховодить на всем побережье стали оманские султаны. Главное их внимание было приковано к не желавшей покориться арабам Момбасе. Жители Ламу были союзниками оманитов в этой борьбе и больше выигрывали, чем теряли в ней. Потом Кения сделалась колонией Англии, и острова Ламу оказались «крайним севером британской Восточной Африки», как раз напротив неспокойной границы с Сомали. Полное бездорожье в материковой части этого района не допускало к Ламу с суши, а статус «закрытого района», введенный администрацией по политическим причинам во всей Северной Кении, надолго затруднил проникновение туда с моря. Закрытый для всех, архипелаг Ламу вскоре был забыт всем миром.
Такой дорогой ценой на острове были созданы уникальные условия для беспрерывного поступательного развития суахилийской культуры. Это был своеобразный замкнутый микрокосм, в чем-то повторявший историю развития всего побережья, но отличавшийся от него единой судьбой островов и преемственностью традиций, передававшихся в пределах архипелага от одного города к другому, а затем «экспортировавшихся» отсюда в остальные части суахилийского мира. Именно здесь зародился язык суахили, который его первые европейские исследователи середины XIX века включали «в число двенадцати великих языков мира, более всего употребляемых при сношениях людей различных национальностей». Ныне этот язык — наиболее распространенный в Африке, его знают примерно 60 миллионов человек, то есть каждый восьмой африканец. Подобное растущее влияние суахили на континенте, а также богатство его лексики служит, по справедливому замечанию Б. Дэвидсона, «еще одним подтверждением древности и прочности фундамента этого языка», изобилующего сочными идиомами и бытовыми словечками, дающими говорящим на нем возможность передавать самые тонкие переживания. Именно здесь, на побережье, на протяжении веков формировалась столь несвойственная этому аграрному континенту земледельцев и скотоводов уникальная городская культура суахили — единственная в своем роде в Тропической Африке. Она породила столь же уникальную каменную архитектуру, прикладные искусства, соответствующие высоким критериям развитого общества нравы, мораль, традиции.
Глава сорок седьмая
Познакомьтесь: архипелаг Баджун. — Древние называли эти места «берегом зинджей». — «Хроника Пате» ведет историю городов с VII века. — 600 лет спустя: зинджи поклоняются камням, а не Аллаху. — Фаллос шагает на крышу мечетей. — Культ «кайя» жив и сегодня. — Африканские корни зинджского языка протосуахили. — «Савахил» означает «береговая страна». — Прибрежные зинджи «превращаются» в васуахили. — Земледельцы, купцы и мореплаватели Восточной Африки. — Главным товаром становится железо. — Выгоды торговли влекут в Савахил переселенцев-мусульман. — Португальские пушки превращают цветущие города в руины
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Черный феникс. Африканское сафари"
Книги похожие на "Черный феникс. Африканское сафари" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Кулик - Черный феникс. Африканское сафари"
Отзывы читателей о книге "Черный феникс. Африканское сафари", комментарии и мнения людей о произведении.