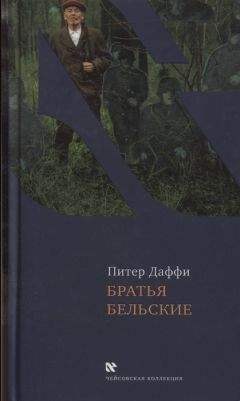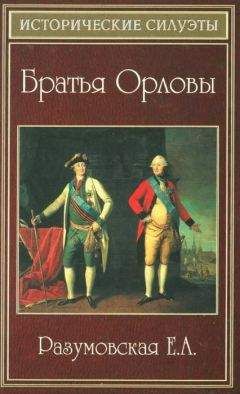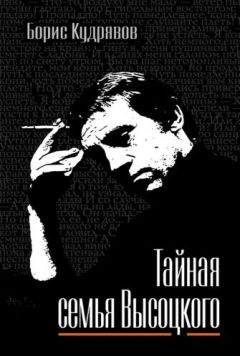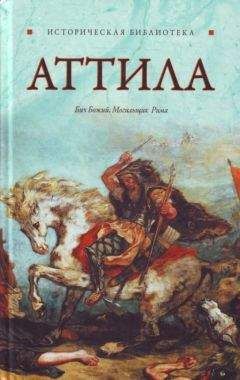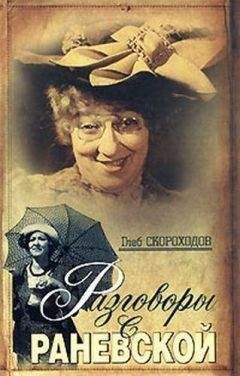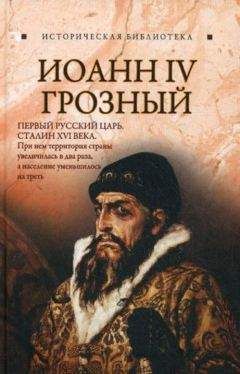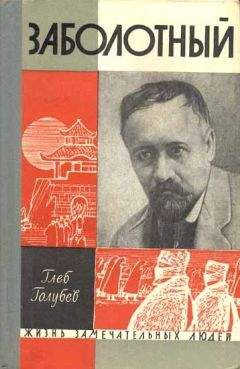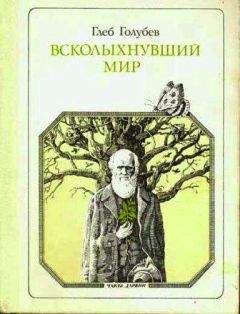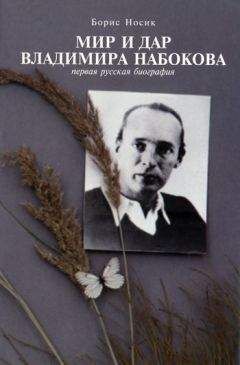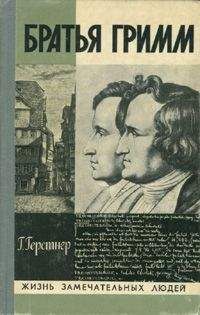Андрей Ранчин - Борис и Глеб

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Борис и Глеб"
Описание и краткое содержание "Борис и Глеб" читать бесплатно онлайн.
Первые русские святые, братья Борис и Глеб избрали для себя добровольную смерть, отказавшись от борьбы за власть над Киевом и всей Русской землей. Это случилось почти тысячу лет назад, летом и в начале осени 1015 года, после смерти их отца Владимира, Крестителя Руси. Но в последующей русской истории парадоксальным образом святые братья стали восприниматься как небесные заступники и воители за Русскую землю; их незримое присутствие на полях сражений с завоевателями, иноплеменниками русские люди ощущали постоянно и на протяжении многих веков — и на льду Чудского озера в 1242 году, и накануне и во время Куликовской битвы 1380 года, и при нашествии на Русь войск крымского хана Девлет-Гирея в XVI столетии… В наш век, культивирующий прагматизм и гедонизм и признающий лишь брутальных героев, братья Борис и Глеб, явившие миру подвиг непротивления злу, могут показаться теми, кого на убогом языке улицы называют «неудачниками», «лузерами». Но совершённое ими не имеет ничего общего ни с податливым и робким подчинением обстоятельствам, ни с трусостью и параличом воли. Об этом напоминает автор книги, доктор филологических наук, профессор Андрей Михайлович Ранчин.
Представленная вниманию читателей книга — по существу первый опыт именно биографического, а не житийного повествования о Борисе и Глебе. Автор тщательно разбирает все версии источников, все свидетельства, имеющие отношение к биографии братьев, пытаясь дать свой ответ на вопрос: почему именно Борису и Глебу, а не каким-то иным жертвам столь частых в Древней Руси внутридинастических конфликтов, довелось стать первыми русскими святыми?
Увы, все соображения историков о причине, по которой Глеб шел левым берегом Волги, — лишь догадки и даже фантазии. Зато бешеная, кажущаяся невероятной быстрота путешествия, длина дневных переходов вполне правдоподобны, и потому 5 сентября могло быть точной датой гибели муромского князя. Быструю езду любили и в те стародавние времена: князь Владимир Мономах вспоминал в «Поучении», что ему приходилось за день преодолевать расстояние между Киевом и Черниговом{433} (в современном исчислении 149 километров, то есть почти 140 верст!). Святополков курьер ехал скоро, Глеб тоже спешил: он хотел застать отца в живых. Неизвестно, как были налажены станы и конские подставы на пути, но трудностей со сменой загнанных или обессилевших лошадей на свежих не было. Скорость движения Глеба и его спутников могла быть и меньшей: расчет основан на сообщении летописи, что Святополк послал вестника к Глебу после убийства Бориса, произошедшего 24 июля. Но если «второй Каин» готовил преступление заранее и давно замыслил убийство обоих братьев, он мог нанести оба удара одновременно и отправить вестника к Глебу сразу после 15 июля — почти тотчас после смерти Владимира. В таком случае у Глеба было больше времени, чтобы к 5 сентября оказаться возле Смоленска.
Ясно, и почему был выбран такой длинный путь. Короткий путь, как известно, не всегда самый быстрый. Почему Глеб не поплыл вниз по Оке из Мурома до ее впадения в Волгу, легко объяснить: земли в нижнем течении Оки, в окрестностях будущего Нижнего Новгорода, находились тогда под властью булгар, а не русских князей{434}. Понятно и то, почему князь и его свита сначала пошли берегом Волги на лошадях, а не сразу поплыли в ладье: плыть пришлось бы против течения, и такое путешествие оказалось бы более долгим.
Прямого пути из Мурома в Киевскую землю через будущие московские земли тогда, возможно, попросту не было[126], а были только кружные: об этом свидетельствуют находки археологами восточных монет{435}. Вятичи, славянское племя, чьи земли отделяли Залесскую Русь от Киева, не были к началу XI века полностью покорены. Свободолюбивые и своенравные вятичи долго сохраняли старую, языческую веру{436}. Проповедь христианства в их землях была опасной даже в первой четверти XII века: тогда вятичами был убит монах-миссионер Кукша, постриженник Киево-Печерской обители{437}.
Землю вятичей завоевал Святослав Игоревич (по летописи, князь совершил против них два похода, в 964 и 966 годах, но летописная хронология условна и не вполне точна{438}). Однако вятичи отнюдь не были подчинены: «…Под 981 и 982 годами “Повесть временных лет” сообщает об упорной войне, которую вел с вятичами киевский князь Владимир, сын Святослава. Другой Владимир, Мономах (праправнук Святослава), как о подвиге рассказывал в своем “Поучении” о том, что он по поручению отца проехал к Ростову “сквозь землю вятичей”. Этот поход исследователи относят к 1072 году. А еще позднее, в 1081—1082 годах, Мономах две зимы подряд ходил в Вятичскую землю воевать с местными правителями Ходотой и его сыном»{439}.
Именно опасностью путешествия «сквозе вятичей» и отсутствием прямой дороги из Ростова к Киеву объяснял путь Глеба В.О. Ключевский. «Даже былины сохранили память, что не было прямой дороги между Суздальским северным краем и Киевом<…>, — писал он. — Это был в то время непроходимый край; уйти к вятичам значило скрыться так, чтобы не сыскали. Во время борьбы Святославичей с Мономаховичами князь, теснимый врагами, иногда искал убежища за лесами, у вятичей. Из города Карачева в Козельск надо было ехать дремучими лесами Брянскими; на обилие этих лесов указывает имя города Брянска, называвшегося тогда Дебрянском (от дебрей). Недаром Суздальский край назывался на юге Залесским»{440}.[127]
О том, что путь из Залесской Руси в Киев по Волге и Днепру через Смоленск был в то время если и не единственным, то самым привычным, свидетельствуют и действия Святополка, который выслал отряд для убийства Глеба именно под Смоленск, очевидно заранее зная, какой путь выберет жертва. Хотя не исключено: были посланы отряды, чтобы перекрыть и другие пути.
Существует и еще одно объяснение маршрута Глеба: князь будто бы шел не к Святополку, а к Ярославу, пытаясь укрыться в Новгороде от братоубийцы, или же намеревался отправиться по Западной Двине на Балтику, а оттуда в Скандинавию{441}. Но эта версия неправдоподобна. «Чтение…» Нестора свидетельствует, что Глеб намеревался искать защиты на севере у Ярослава, но книжник высказывает такую мысль, кажется, только затем, чтобы теснее связать святых братьев с Ярославом, учредившим их почитание. Никаких бесспорных свидетельств об особенно теплых братских отношениях между властолюбивым Ярославом и Глебом нет. Единоутробный брат Глеба Борис, вероятно, стал преемником отца и, «обошедший» новгородского князя, был для Ярослава не союзником, а соперником. Конечно, в ситуации смертельной опасности мальчик Глеб мог искать защиты и у Ярослава и вряд ли попал бы из огня да в полымя, свернув от Смоленска к северу, а не к югу. Но неясно, откуда Глеб мог узнать о подлинной ситуации в Киеве и о злодеянии Святополка, чтобы сразу решиться идти на север через Смоленск. Гонец от Святополка прибыл к нему заведомо раньше, чем это мог сделать вестник от Ярослава: Ярослав прежде должен был получить весть из Киева и только потом переслать ее Глебу. Ни в Муроме, ни в Ростове вестник из Новгорода Глеба уже не застал бы, а если они встретились на пути, значит, Ярославу был известен обыкновенный, принятый путь из Залесской Руси в Киев. И этот путь пролегал по Волге через Смоленск.
Впрочем, Глеб вряд ли смог получить на самом деле это предупреждение, если Ярослав его посылал. (Сомневаться в таком добродеянии новгородского князя, считая, что из властолюбия он косвенно поспособствовал гибели отрока Глеба, у нас нет оснований.) Глеб не пытается бежать от убийц, видя их ладью-«насад»{442}. А ведь совсем юный Глеб в отличие от Бориса не был изначально готов принять смерть, он приемлет свою участь и молится за своих врагов только уже схваченный ими. Его мольба о пощаде, обращенная к убийцам, — одно из самых эмоциональных, самых трогательных мест в древнерусской литературе:
«Блаженный понял, что хотят убить его. И, глядя на убийц кротким взором, омывая лицо свое слезами, смирившись, в сердечном сокрушении, трепетно вздыхая, заливаясь слезами и ослабев телом, стал жалостно умолять: “Не трогайте меня, братья мои милые и дорогие! Не трогайте меня, никакого зла вам не причинившего! Пощадите, братья и повелители мои, пощадите! Какую обиду нанес я брату моему и вам, братья и повелители мои? Если есть какая обида, то ведите меня к князю вашему и к брату моему и господину. Пожалейте юность мою, смилуйтесь, повелители мои! Будьте господами моими, а я буду вашим рабом. Не губите меня, в жизни юного, не пожинайте колоса, еще не созревшего, соком беззлобия налитого! Не срезайте лозу, еще не выросшую, но плод имеющую! Умоляю вас и отдаюсь на вашу милость. Побойтесь сказавшего устами апостола: 'Не будьте детьми умом: надело злое будьте как младенцы, а по уму совершеннолетни будьте' [1 Коринф. 14: 20]. Я же, братья, и делом и возрастом молод еще. Это не убийство, но живодерство! Какое зло сотворил я, скажите мне, и не буду тогда жаловаться. Если же кровью моей насытиться хотите, то я, братья, в руках ваших и брата моего, а вашего князя”».
Но все эти ранящие чувствительное сердце просьбы были бессмысленны: «И ни единое слово не устыдило их, но как свирепые звери напали на него. Он же, видя, что не внемлют словам его, стал говорить: “Да избавятся от вечных мук и любимый отец мой и господин Василий (крестильное имя Владимира. — А. Р.), и мать госпожа моя, и ты, брат Борис, — наставник юности моей, и ты, брат и пособник Ярослав, и ты, брат и враг Святополк, и все вы, братья и дружина, пусть все спасутся! Уже не увижу вас в жизни сей, ибо разлучают меня с вами насильно”. И говорил плача: “Василий, Василий, отец мой и господин! Преклони слух свой и услышь глас мой, посмотри и узри случившееся с сыном твоим, как ни за что убивают меня. Увы мне, увы мне! Услышь, небо, и внемли, земля! И ты, Борис брат, услышь глас мой. Отца моего Василия призвал, и не внял он мне, неужели и ты не хочешь услышать меня? Погляди на скорбь сердца моего и боль души моей, погляди на потоки слез моих, текущих как река! И никто не внемлет мне, но ты помяни меня и помолись обо мне перед Владыкой всех, ибо ты угоден ему и предстоишь пред престолом его”» («Сказание об убиении Бориса и Глеба»){443}.
Эти моления, естественно, не являются «записью» подлинных молитв юного князя. Убийцы вряд ли оставили ему достаточно времени для таких прошений и сетований, всё было проще, грубее и быстрее. Но психологически они вполне достоверны.
В самом убиении Глеба содержатся, возможно, какие-то отголоски древнего обряда. Князя убивают не сами посланцы Святополка во главе с Горясером, а собственный слуга, причем это повар, и он этнически и, возможно, религиозно «чужой», «чуждый»: имя Торчин — это этноним тюркского народа (торков), выходцы из которого служили русским князьям. Подобным образом позднее, в 1097 году, князя Василька Теребовльского поручат ослепить овчарю Берендею, чье имя является обозначением другого тюркского народа. (При этом летописец называет Берендея «торчином» — торком{444}.) Убийство Глеба поваром похоже на жертвоприношение, при этом «свои» злодеи — посланцы Святополка не решаются сами зарезать ребенка. Но в христианском смысловом пространстве это преступление предстает подобием Крестной Жертвы Христа: не случайно и «Повесть временных лет», и «Сказание о Борисе и Глебе» называют убиваемого агнцем, как Агнцем Небесным символически именуется Иисус Христос[128].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Борис и Глеб"
Книги похожие на "Борис и Глеб" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Ранчин - Борис и Глеб"
Отзывы читателей о книге "Борис и Глеб", комментарии и мнения людей о произведении.