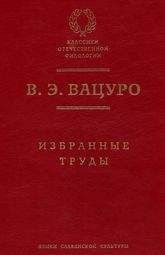Вадим Вацуро - Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов"
Описание и краткое содержание "Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов" читать бесплатно онлайн.
Ранние стадии литературного развития Лермонтова обследованы далеко не полностью. Обычно изучение его начинается с 1828 года, к которому относятся первые литературные опыты поэта; но к этому времени он уже обладает достаточно широкой начитанностью и более или менее сложившимися литературными симпатиями и антипатиями. В Московском университетском благородном пансионе он сразу же попадает в среду, жившую литературными интересами; его ближайшие учителя — Раич, Мерзляков, Павлов, Зиновьев — непосредственные участники ожесточенных журнальных битв, защитники определенных эстетических программ. В литературном сознании юного поэта соседствуют, ассоциируются, противоборствуют различные поэтические школы. Но среди этого сложного, порою противоречивого и вряд ли вполне осознанного комплекса литературных притяжений и отталкиваний уже намечается тенденция к некоему самоопределению.
Стихотворение Веневитинова, несомненно, было известно Лермонтову. Всю его абстрактно-философскую часть он отверг и воспринял лишь заключительный чувственный образ:
Как червь, к душе твоей
Я прилеплюсь, и каждый миг отрады
Несносен будет ей…
Во всех рассмотренных случаях литературные поиски Лермонтова так или иначе противополагались идейной, эстетической и стилистической позиции как Мерзлякова, так и Раича и любомудров. Но до сих пор речь шла преимущественно о жанровых и стилистических особенностях стихотворений. Между тем существует интереснейший случай, когда Лермонтов прямо вступает в область, находившуюся в полновластном владении именно этой литературно-философской группы. Речь идет о стихотворении «Поэт» (1828), где разрабатывается легенда о видении Рафаэля.
Прежде всего восстановим вкратце тот общий эстетический фон, в который органически включалась легенда о Рафаэле.
В основе литературной политики московских шеллингианцев лежала целостная концепция, восходящая к немецкой эстетике, но приобретшая некоторые специфические черты, которые и определяли высказывания критиков о конкретных явлениях литературы. Несомненно, они были сторонниками романтизма, однако суженного, очищенного и уложенного в рамки эстетических desiderata. Отправной точкой для критиков и эстетиков этого направления, к которым были близки по своим теоретическим взглядам Надеждин, Средний-Камашев и другие, была триада духовного развития человечества. Первая эпоха — древность, период первобытной гармонии между человеком и природой, когда дух дремлет и человек черпает из окружающей природы свою религию, формы общественной жизни, искусство. Идеал древних — пластическая красота телесных форм, чувственное начало, гармоническая уравновешенность материального и духовного. Отсюда — и эпическая плавность, описательность, «объективность» гомеровского эпоса. Пробуждение духа к самопознанию определяет вторую эпоху человечества — Средневековье. Первобытная гармония разрушается; дух обращается на себя самого, и человеческое сознание усматривает в природе лишь то, что несет на себе печать духовности и в наибольшей степени освобождено от своей телесной оболочки. Под этим углом зрения Надеждин пытался рассмотреть и государственные, и правовые, и религиозные взгляды Средневековья. Здесь, во втором периоде, утверждается представление о двух мирах — бренном, телесном и вечном, потустороннем. Возникает христианская религия, которая вносит гармонию в романтическую настроенность человеческого духа и является высшим идеалом художника.
Третий и последний член триады — синтез объективного и субъективного, который создает и высшую форму искусства, «художественное» — «высшее творение, где бесконечное и конечное совершенно сливаются, так что их видим мы в чистейшем, самом непосредственном взаимном действии»[23].
В этом синтезе может преобладать конечное, чувственная форма, — тогда произведение становится предметом чувственного созерцания; оно изящно. Но высшим уровнем поэзии является не изящное, а высокое, т. е. преобладание бесконечного, идеи; это — «высшее, идеальное изящество… начало вдохновения»[24]. Полная гармония высокого и изящного является практически недостижимым идеалом. При этом идея, стремящаяся в пределе к тождеству с чувственной формой, понимается как идея философско-религиозная, ведущая автора и читателя к единому божественному началу. Искусство оказывается формой религиозно-философского осмысления действительности, и, даже более того, художник-гений выступает как демиург поэтического мира, созданного по тем же вечным законам, по которым божество творит реальный мир. «…Созданный человеческий дух… — писал позднее в „Телескопе“ Н. И. Надеждин, — является дивным соревнователем всезиждительного духа, проникающего и оживотворяющего вселенную: а посему и ныне преимущественно должно проявиться в них современное направление человечества»[25]. Отсюда следует тезис о божественности художника, сопровождаемый важным замечанием, имеющим уже несомненный политический смысл: поэт не должен ставить в центре своего внимания противоречия действительности, которые не являются существенными перед лицом высшей гармонии. «Поэт одушевлен… идеалами совершенства; но природа не дала ему возможности воплощать их в бытии действительном. Поэт не создан жить во внешности; все силы души его соединены в его всеобъемлющей фантазии, которая в минуты вдохновения рисует ему все, что есть великого, утешительного в судьбе и назначении человека». Он «переносится во все времена и во всех людей, и повсюду открывает ту гармонию, которой верит его любящее сердце. Вот почему Поэзия назидательна… Поэзия, представляя жизнь в истинном, лучшем ее виде, мирит с нею»[26]. Но коль скоро поэзия приоткрывает человеку «гармонию внешнего и внутреннего мира», она тем самым сближается с историей и философией, задача которых — обнаружить «руку промысла» в ходе исторической жизни человечества и открыть «первоначальную идею назначения человека и вселенной»[27]. В высших своих точках история, философия и поэзия теряют различия, достигая в христианской религии подлинного и полного гармонического слияния[28].
Эта концепция, изложенная здесь в самом общем виде, была исходным пунктом в критической деятельности Шевырева, Погодина, Титова, Надеждина и других. Создается очень жесткая и тщательно разработанная шкала литературных ценностей. Вероятно, наиболее ярким примером обнажения эстетической позиции является отзыв Надеждина о стихах Пушкина в «Северных цветах»: они
все так посредственны… чуть-чуть не ничтожны. Один только «Монастырь на Казбеке» играет лучами таланта, особенно в заключении:
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться в вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..[29]
В 1820-е годы «Московский вестник» поддерживает и пропагандирует религиозно-мистические тенденции в поэзии Федора Глинки. В 1826 году Титов, Шевырев и Мельгунов переводят книгу Вакенродера «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком», где сконцентрировались основные проблемы религиозного искусства, как понимала их йенская школа. Отдельную главу этой книги составлял рассказ «Видение Рафаэля» — легенда, о Богоматери, явившейся художнику и вдохновившей его на создание Сикстинской Мадонны. Рассказанная Вакенродером в «Herzensergiefiungen eines kunstliebenden. Klosterbruders» со ссылкой на вымышленную рукопись Браманте, легенда эта вобрала в себя целый ряд частных проблем эстетики религиозного искусства. Нужно отметить, впрочем, что проникновение рассказа о видении Рафаэля в русскую литературу началось несколько ранее перевода книги, в 1824 году Кюхельбекер в своих письмах из заграничного путешествия упоминает о книге Вакенродера как раз в связи с этой легендой[30], в одном из следующих выпусков альманаха он дает восторженное описание самой Сикстинской Мадонны, с явным учетом рассказа Вакенродера. На туже легенду ссылается более близко знакомый с Тиком В. А. Жуковский[31], статья которого о рафаэлевской Мадонне была хорошо известна питомцам Благородного пансиона[32]. Возможно, они знали также и «легенду» Гердера «Das Bild der Andacht» с близким сюжетом, на которую в специальном примечании в собрании своих сочинений обращал внимание Н. Д. Иванчин-Писарев[33].
В основании рассказа о «видении Рафаэля» лежала фраза из письма Рафаэля Кастильоне: «В мире так мало изображений прелести женской; посему-то я прилепился к одному тайному образу, который иногда навещает мою душу»[34]. Далее в легенде выделяются четыре основных эпизода:
1. Постоянно преследующая Рафаэля определенная идея (certa idea, по Шевыреву — «тайный образ»), образ богоматери, позднее воплощенный в Сикстинской мадонне.
2. Несколько раз этот смутный образ возникал перед Рафаэлем в облике идеальной девы, «но это было одно летучее мгновение: он не мог удерживать мечты в душе своей» (с. 7).
3. Движимый постоянным внутренним беспокойством, он принимается писать деву; утомленный работой, засыпает и во сне молится богоматери; проснувшись от сильного волнения, на месте неоконченной картины он видит божественный облик девы и проливает слезы в благоговейном экстазе[35].
4. Видение «навеки врезалось в… душу и чувства» Рафаэля; он воплощает его на полотне. С тех пор «всегда с благоговейным трепетом он смотрел на изображение своей Мадонны» (с. 8)[36].
Рафаэль надолго становится символом религиозного искусства[37]. При этом развивалась заложенная уже в стихотворении Гердера мысль, что это последнее возможно только как искусство гармоническое и условием его является спокойное и уравновешенное молитвенное созерцание («Die hôchste Liebe, wie die hôchste Kunst ist Andacht. Dem zer-treueten Gemüth Erscheint die Wahrheit und die Schônheit nie»). Принципиальный смысл положения о возвышенной и уравновешенной красоте как эстетическом идеале был обоснован, в частности, Шеллингом в речи «Об отношении изобразительных искусств к природе», где он специально останавливается на эстетической допустимости страстей в искусстве. По Шеллингу, страдание духа, происходящее от связи его с чувственным бытием, может быть претворено в высокую красоту лишь силой божественной любви, которую несет с собою душа. Узы земного бытия разрываются, душа стремится к единению в божестве. Эта красота, сочетающая нравственную благость с чувственной прелестью, достигла апогея в произведениях Рафаэля, который, таким образом, является единственным в своем роде[38].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов"
Книги похожие на "Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Вацуро - Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов"
Отзывы читателей о книге "Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.