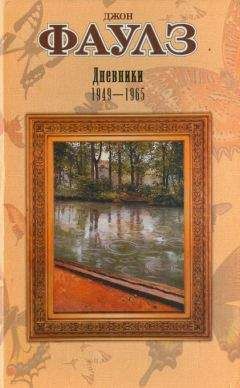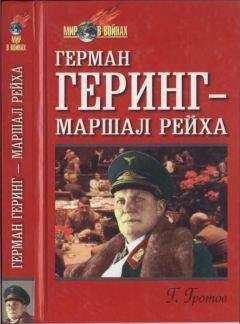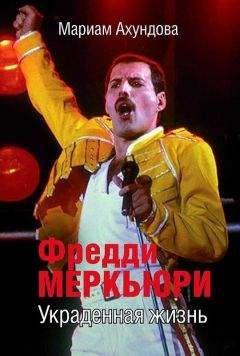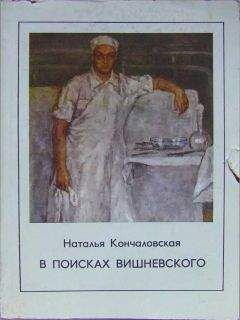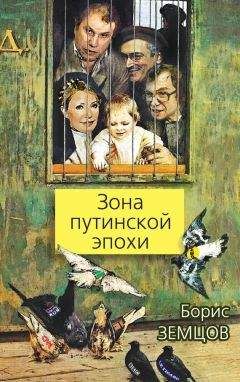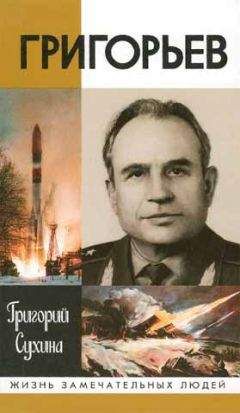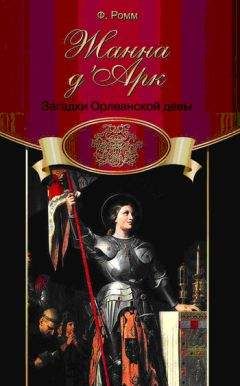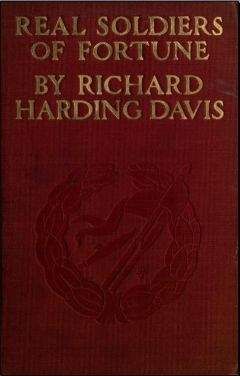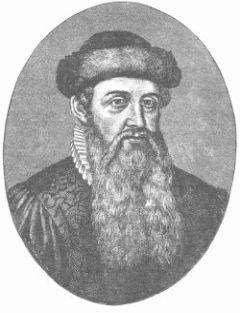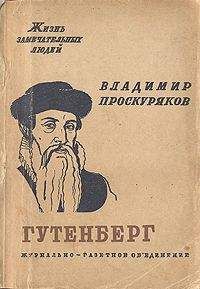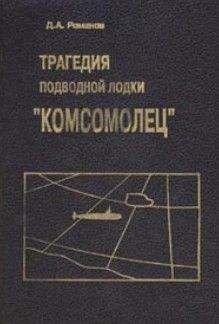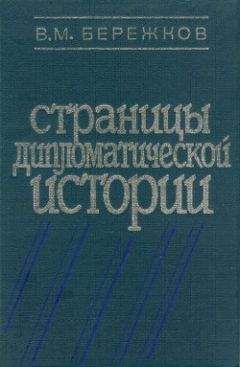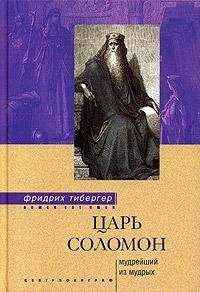Наталия Варбанец - Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе"
Описание и краткое содержание "Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе" читать бесплатно онлайн.
Автору удалось пролить свет на многие загадки начала книгопечатания в Европе. Глубокий научный анализ и страстность в поисках истины позволили автору встать рядом с героем книги, проникнуть в скрытые пружины поступков его врагов и судей. Прослежена судьба типографий, шрифтов, изданий Гутенберга и его «конкурентов».
Второй герой книги — предреволюционное религиозное просвещение, фантастический мир Средневековья.
Монография Н. В. Варбанец — новое слово в истории книги. Представляет большую ценность для книговедов, историков. Увлекательна для библиофилов, для всех культурных людей, интересующихся историей книги.
Все было, конечно, не столь просто. К Средним векам понятие «массы» применимо лишь с оговорками. И людей было мало. И по условиям жизни, по условиям труда каждый человек был отдельным, даже в городе. Всех видов зависимость была личной. И сознание: каждый в своих пределах должен был сам за себя отвечать перед богом. Массовые движения, увлечения жестокостью в завоевательских и классовых расправах были, механистичности не получалось. Церковно-идеологическая система работала в зависимости от места, времени, людей. Конечно, ее террористический принцип, в чьих бы интересах — папства или королевских — он ни проводился, людей не страстно убежденных деморализовывал. Оставить обвинение в ереси без рассмотрения равнялось соучастию, а доносы бедных и «простых» друг на друга и особенно — на богатых и ученых периодически поощрялись. Но были и барьеры: отчасти — государственная, а главное — феодальная раздробленность католического мира, конфликты между властителями и папами, случаи двухкоролевья и двоепапства, княжеские оппозиции. Короли и князья порой брали еретизм на вооружение. Фридрих II Штауфен, спекулируя на популярном идеале церкви бедной, прямо вел пропаганду против Римской иерархии. В странах с наиболее тогда выраженными монархическими тенденциями (Франция, Англия) инквизиция могла действовать более методично, в децентрализованной Италии и в Германии спорадически. Духовенство и монашество ни по социальному составу, ни по социальной ориентации, ни по воззрениям на пути церковного строительства не были едины, включая иерархов, из коих некоторые к духовной инициативе снизу, даже еретической, пока она не денонсировалась, были терпимы (в частности, в Империи). И т. д. Тем более это относится к цензуре: разрешенное в одном государстве (княжестве, епископстве, городе) запрещалось в другом, иногда вопреки папе. Книготорговые привилегии были статьей дохода. Цензурный досмотр в отношении авторов канонизированных, античных, вообще «одобренных» мог производиться по перечню (от таких перечней пошли, видимо, книготорговые объявления). Чтение этих авторов само по себе не возбранялось, что с XII в. породило новую волну специфически средневекового явления — псевдоэпиграфов. Первая имела место в инвеститурном споре, но с другими целями: имена церковных авторитетов были нужны как опора своей позиции. Теперь они служили для alibi. Под именем признанного теолога и философа XIII в. Альберта Великого ходили — и в XV в. издавались — тексты, включенные затем в «Индекс запрещенных книг». Сатира некоего немца XIV в. Конрада на Парижский университет сохранилась — и вошла в печатные издания XV в. — под именем весьма чтимого позднеримского философа Боэция (в данном случае вряд ли без участия либрария). Под именем Аквината был известен — и печатался — комментарий к тому же Боэцию доминиканца Фомы из Уэллса, в 1384 г. обвинявшегося в еретической проповеди. Это — образцы из книжности ученой, уже — из университетской. Изучение средневековой анонимики и псевдоэпиграфики, всего множества псевдо-Альбертовых, псевдо-Августиновых, псевдо-Бернардовых и т. п. произведений в свете идеологической обстановки той эпохи дало бы и более яркие примеры. Сам принцип хлынувшего с XIV в. из Италии нового направления учености — изучать древние litterae humanae — человеческие писания, а не «священное», тоже был своего рода alibi: родились критика текстов, розыски древнейших списков и пр. из стремления вернуть «подлинность» тексту Библии. Университеты как филиальные организации церкви своим подчинением папе были, включая студенчество, из местной юрисдикции изъяты. Это создавало касту, ревнивую к своим прерогативам, что покрывало и буйство, распутство школяров, и ученое презрение к «неучам». Но то же давало некоторую независимость: одобренное тем или иным университетом сочинение или учительство до поры от обвинения в ереси ограждалось. Такие конфликты с церковью, как в 1381 г. у Оксфордского университета из-за Виклифа, — случай чрезвычайный. Но осужденный аверроизм, например, в итальянских университетах процветал (и Аристотель с комментариями Аверроэса в XV в. в Италии издавался); проникновение его за Альпами беспокоило лишь университеты другого направления (и в сфере их цензуры не допускалось); и т. п.
Важнее, что Средневековье — эпоха бродяжья. Наиболее оседлым в ней было среднее бюргерство, и то подмастерью перед испытанием на мастера полагались годы странствий. Подмастерья, пилигримы всех сословий, мелкие торговцы вразнос по деревням или ярмаркам, воины к местам сбора или возвращавшиеся, крестьяне на заработки или просто беглые, калеки, прокаженные, нищие всех сортов, монахи из монастыря в монастырь или самовольные, школяры из университета в университет в поисках лучшего знания и т. п., все порой на грани мошенничества и разбоя, и тем более идеологически трудно контролируемое. С бродягами из духовного звания церковь борется уже в VII в., ославляя их как обирал, обжирал (каковые тоже были). Ваганты стали синонимом носителей латинской поэзии XII–XIII вв., в основном ученой, хотя обычно кабацкой. В отношении школяров регуляризирующие меры — имматрикуляция, организация их при всех университетах по нациям с ректорами для каждой — в XIII–XIV вв. были приняты. Упоминаемые в церковных постановлениях среди clerici vagantes священники без прихода, неполномочные проповедники и пр. подлежали церковной администрации или инквизиции. Сперва среди них, затем особо упоминается другая категория интеллигенции, тоже межсоциальная — из рыцарей, крестьян, горожан, низшего клира, обычно бродячая, часто владевшая чтением, нередко письмом — певцы и жонглеры. Как профессия они были от церкви отлучены. О внушаемой ими тревоге в конце XII и в XIII в. говорят отмены отлучения для тех, которые служат при сеньорах для прославления их рода и деяний или поют жития святых, — тоже попытка регуляризации, вплоть до тематики (другая форма узаконения певцов — городские цехи мейстерзанга с XIV в. в Германии). Однако среди этих текучих масс контролю поддавалось слово публичное, произнесенное, за словом письменным здесь, в отличие от ученой среды, уследить было много трудней. Слово письменное низших слоев тогдашней общественной лестницы и поныне остается вопросом. Не только потому, что из книги прошлого (даже более, чем из других предметов материальной культуры) собираются и привлекают изучение памятники искусства, т. е. предметы обихода высших классов, памятники рядовые если не исчезают бесследно как малоценные, то веками остаются без внимания. Важнее, что проблемы такой в зарубежной истории книги, как правило, не ставится. Буржуазная наука и здесь грешит буржуазным апологетизмом: с высокого Средневековья граница чтения проводится на уровне среднезажиточного горожанина, ниже этой черты, кроме опустившихся клириков, всё — даже для XV в. — представляется если не безграмотным, то бескнижным. В первую очередь, конечно, крестьянство. Вопрос, шла ли народная традиция снизу или подражала верхам, для Средних веков праздный: кроме сословных обрядностей, разрыва в песнях, плясках, играх и пр. между знатью и крестьянством не было, обе стороны приспосабливали к себе искони общее, а вместе с ним и заимствованное достояние, это был равноценный обмен. Народная культура той эпохи определялась не фольклором, а теми источниками — своими, иноязычными, которые, так или иначе претворив, народ брал на свое идейное вооружение. «Забитость» средневекового крестьянина вряд ли не миф. Не потому, что его не били, били тогда всех. Но класс, составлявший основу феодального строя, был в целом полон сознания своего права и силы поправить его по-своему, это слышится даже в ответах Жанны д’Арк на ее процессе. Постоянный приток из крестьянства в духовный чин предполагает элементы книжности в крестьянской среде. И особенно — распространение народного еретизма, подспудное, как наземный лесной пожар: затоптанный в одном месте, он вспыхивал в другом, а порой через столетия — снова в том же, что могло быть лишь при условии, если жил он не только из уст в уста, но в письменной, книжной традиции, которая от инквизиторов ускользала.
В силу всеевропейской однотипности социальных противоречий еретизм обретал столь же межнациональный размах, как официальная вера. Это не значит, что он был единым: разные направления и секты не менее страстно отрицали друг друга, чем церковь. Но все «христианское человечество» мыслило себя перед лицом «незримой церкви», «небесного Иерусалима» — бога (троичность его не все ереси признавали), чинов ангельских, апостолов, мучеников и пр., смысл земного пути был в том, чтобы в итоге к ней приложиться, надежда молитв, бдений, всей школы самоэкзальтации — в том, чтобы вступить с нею в общение, ключ — в страданиях Христовых (каждое богослужение по идее — приобщение к ним). И источник был один — Новый завет с апокрифами (Ветхий завет толковался как его «префигурация» — символические прообразы; сопоставительные толкования — экзегезы — были и ортодоксальные и еретические; некоторые ереси принимали не все ветхозаветные книги). Поэтому и в ересях спор шел об основах церкви всеобщей, единственно «истинной», т. е. либо о более или менее радикальной «реформации» Римской церкви, либо ей противополагалась церковь другая (а ее — за искажение учения и гонения «истинных» христиан обзывали «сатанинской синагогой»), И то и другое обязывало проповедовать всем народам. Посему почти все направления еретизма латиноязычие в той или иной мере сохраняли. Но «народ божий» — «бедные мира» — говорил на разных языках, которые этим освящались (и тому был символ: апостолы по сошествии на них «святого духа» заговорили «всеми языками»). Уже поэтому «Священное писание» должно было быть на каждом языке (и был пример: Иероним перевел Библию на язык народный). Большинство переводов Библии с этого периода своим происхождением обязаны явному или скрытому еретизму. Библия же — в обход собственно церковной традиции — провозглашалась единственно истинным источником «пути к спасению» (чем учительность тех или иных христианских сочинений не исключалась). Поэтому почти каждое из направлений еретизма своих последователей грамоте — хотя бы чтению — обучало. С высокого Средневековья и начинается борьба церкви с чтением Библии мирянами: запрещение переводов декретировано в 1229 г. В реалии христианского предания и в популярные его образы облекались философские идеи. Споры вокруг Христа и богоматери по сути шли о мере единения божеского начала с человеческим: для дуализма Христос был богом, воплощение и страдания его — мнимы (чисто дуалистическая струя, признававшая вообще материальный мир творением дьявола, в христианстве вилась лишь побочно; ее отрицательная реплика — черномагические культы с мессами Сатане и пр. — в массовую «ересь ведовства» вылилась в XV в.); мистицизм исходил из их реальности, т. е. из двойной — божеской и человеческой — природы Иисуса; были течения, признававшие в нем лишь человека — сына плотника Иосифа, но как бы усыновленца божьего. Тем самым менялось и значение Марии — от просто страждущей за сына женщины до вечной девы, избранной быть орудием божественного воплощения, а посмертно — «царицей небесной» (последнее связано с гностическим культом «премудрости божьей Софии»; заземление того же культа — в рыцарском служении даме). Спорили о том, таинства ли причастие, рукоположение в священство, крещение и пр. или символические действа. И т. д. А по сути борьба шла за то, чтобы снять рубеж между церковью и остальными верующими, с чем связывалась и идея общественного переустройства. В ересях была своя иерархия — духовной призванности, первым шагом к ней обычно были аскеза и раздача имущества. В ересях были приняты «добрые дела», от милосердных — ухаживать за немощными, поддерживать дух умирающих, погребать мертвых, накормить голодного и пр. — до учительствовать и мученической смертью «прославить господа» (мученики — «капли крови» Христовой). Спасение «добрыми делами» проповедовала и церковь, но чересчур своекорыстно.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе"
Книги похожие на "Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталия Варбанец - Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе"
Отзывы читателей о книге "Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе", комментарии и мнения людей о произведении.