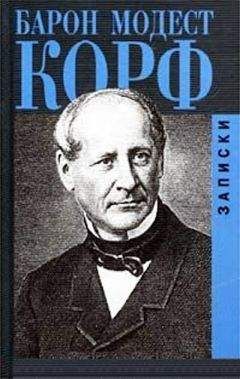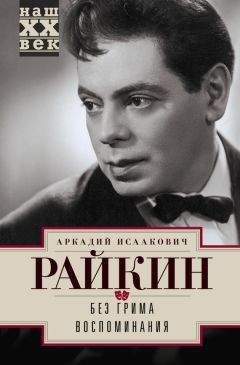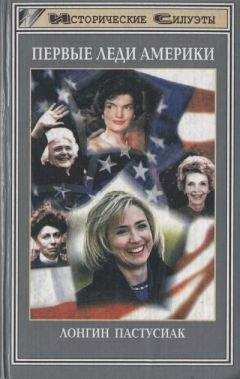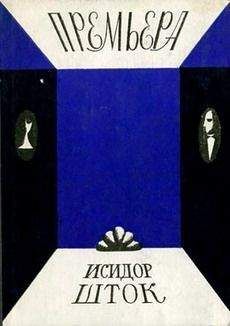Алексей Симуков - Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего)"
Описание и краткое содержание "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего)" читать бесплатно онлайн.
Предлагаемые читателю воспоминания одного из старейших драматургов и киносценаристов страны А. Д. Симукова (1904–1995) представляют собой широкую картину жизни нашего общества на протяжении почти всего XX века, а также размышления автора о театральном искусстве и драматургии. Свою литературную деятельность А. Симуков начал в 1931 г., получив благословение от А. М. Горького, в журнале которого публиковались первые рассказы молодого литератора. Его пьесы, в большинстве своем веселые, жизнерадостные комедии, «Свадьба», «Солнечный дом, или Капитан в отставке», «Воробьевы горы», «Девицы-красавицы», пьесы-сказки «Земля родная», «Семь волшебников» и многие другие широко ставились в театрах страны, а кинофильмы по его сценариям («Волшебное зерно», «Челкаш», «По ту сторону», «Поздняя ягода» и другие) обрели широкую известность. В 60–70-е гг. А. Симуков много и плодотворно работал в области мультипликации. Он автор сценариев целой серии мультипликационных фильмов по мотивам древнегреческой мифологии, вошедших в «золотой фонд» детских программ: «Возвращение с Олимпа», «Лабиринт», «Аргонавты», «Персей», «Прометей», а также мультфильмов «Летучий корабль», «Добрыня Никитич», «Садко богатый» и других, любимых не одним поколением зрителей.
Большой раздел посвящен работе автора в Литинституте им. А. М. Горького, в котором он вел семинар по проблемам современной драматургии, преподавал на Высших литературных курсах и выпестовал в 60-е гг. многих молодых драматургов, получивших из его рук «путевку в жизнь». Ему принадлежит пальма первенства в «открытии» таланта Александра Вампилова и помощь в профессиональном становлении будущего классика российской драматургии.
Воспоминания, несомненно, будут с интересом встречены читателями. Возможно также, что его размышления о театре и драматургии помогут молодежи, избравшей этот вид искусства своей профессией, быстрее овладеть ее секретами. Во всяком случае, именно это было заветной мечтой автора, когда он работал над своими «Записками неунывающего».
— А если, к примеру, пожар, — изумлялся он, — так и выскочишь?
В 1932 году он приехал ко мне в Москву. Я, тогда уже вполне горожанин, встречал его. Он вышел из вокзала и остановился, пораженный. Когда я спросил — что с ним, он, указывая на обступившие нас дома, не произнес даже, а как-то выдохнул: «И всех надо кормить?!» Это вышло у него так непосредственно, так «по делу», выражая ощущение земледельца, который должен кормить эту ораву, как ему казалось, бездельников, что я был потрясен такой искренностью переживаний.
Да, он прав. Всех, кто в городе, надо кормить. Вопрос другой, что в городе тоже работают, но деревня в это никогда по-настоящему не верила. Надо кормить — все равно! И семья Григория Еремеевича Симукова, зажиточных середняков, была именно семьей, которая кормила, в числе миллионов других хлеборобов, своим хлебом горожан.
Александра Федоровна составляла почти единственное общество мамы, когда мы все уехали из деревни. Больше того. Когда началось, уже после моего отъезда, великое разорение деревни, пострадало все семейство Еремея Савостьяновича, Гришкиного отца, и Александру Федоровну приютила мама.
С колхозами у мамы были вообще сложные отношения. Поначалу она приняла идею объединения отдельных хозяйств в единую семью положительно, аккуратно ходила на все собрания, заставляла ходить и меня, когда я приезжал из Москвы. И все говорила мне:
— Леша! Записывай, записывай! Это — история!
И я покорно вынимал записную книжку и — лукавая душа, — не желая огорчать маму, делал вид, что записываю, водя карандашом по чистым листам.
То, что я слышал, представлялось для меня отражением старинных клановых споров. Как я был слеп! Мы были свидетелями и участниками трагедии — уничтожения крестьянства.
Печальные мои чистые страницы! Только после я запомнил фразу из маминого письма: «Нет, ничего у нас из артели не получится».
То, что вскоре произошло с семьей Александры Федоровны, стало печальным подтверждением маминых слов. Кому понадобилось разорять это семейство?
Свекр Александры Федоровны, Еремей Савостьянович, двоюродный брат моего отца, умер в могилевской тюрьме. За что? За то, что кормил своим трудом страну? Григорий Еремеевич, его сын, спасаясь от тюрьмы, где-то работал под чужим именем, изредка появляясь дома, по ночам, нелегально. Каково ему было, когда он прокрадывался в свой дом, подобно вору? Ум отказывается понимать!
Дочь Александры Федоровны Ольга вспоминает. Тогда — это было, очевидно, в самом начале тридцатых годов, Оля училась в школе в Гавриленке. Приходит она как-то после уроков домой и застает такую картину: ее мать сидит на груде вещей на улице, а на крыше их дома ворочаются какие-то страшные дяди — разбирают крышу. Ольга спрашивает у матери:
— Мама, что они делают? Это наш дом!
И слышит ответ сверху:
— Был ваш, а теперь — наш! Будете знать, как богатыми быть!
И что же это за богатство? Обыкновенное среднее хозяйство по нашей местности… О, это страшное, звериное чувство оголтелой зависти к чужому достатку, к тому же созданному своими собственными руками, своим трудом, зависть ко всему здоровому, крепкому, талантливому — во что бы то ни стало отнять, разломать, убить… Это глубоко въевшееся чувство теперь у нас нередко принимает формы высоких идеологических призывов к счастью социального равенства. Кого? Нищих?
Лишившись своего дома, Александра Федоровна вынуждена была с двумя младшими детьми скитаться по чужим хатам, зарабатывая кусок хлеба на чужой земле: родня-то вся — в Соловках! Ко всему еще Александру Федоровну обложили налогом в 40 рублей — так называемое «самообложение»! А у нее метра своей земли нет. Она отказалась платить. Дело направили в суд. Спасая жену, Григорий Еремеевич вышел из своего подполья и вместо жены явился в суд. За отказ платить налог ему «впаяли» четыре года. За сорок рублей! И он отсидел их от звонка до звонка.
Началась война. За это время подрос младший сын — и его, как и старших двух, взяли в армию. И все трое не вернулись с фронта, погибли, защищая Мать-родину! Да, впрочем, какая она была им мать. Мачеха, развалившая их дом, посадившая в тюрьму деда и отца, сославшая на смерть ближайших родственников.
Потом Александра Федоровна сообщила, что осталась бабушкой, воспитывает внуков — сирот, детей погибших на бойне ее сыновей — Коли, Вани и Андрея.
Бедная Александра Федоровна! Бедная семья ее, павшая жертвой бессмысленного социального эксперимента.
Я даже не получил известия о ее смерти, не знаю, когда это произошло, но до сих пор нередко передо мною — ее глаза…
Мои знакомства
То, что я испытывал к Александре Федоровне, не может идти ни в какое сравнение с чувствами, сопровождавшими мое знакомство с девушками, когда я учился в школе в Сураже. Например, с Еней Коган, известной в городе красавицей, или с Любой Рашкес, чудесным созданием, рано скончавшейся от туберкулеза. Она была из очень интеллигентной еврейской семьи беженцев из царства Польского. Ее брат, ставший известным летчиком-испытателем, был одно время мужем Марии, сестры Мили. Ольга Скорнякова с хутора Гари — тоже очень примечательная особа, с огромными лучистыми глазами, ее сестра Мария — красавица во всех отношениях, вся в мать. Они жили неподалеку от участка, на котором отводили луга для школьных работников.
Какие были поездки из Сигеевки на сенокос! Молодежь, шутки, работа… А вечера в «Гарях»? Рядом находился хутор Соловьевых. Там жили Маруся и ее брат Борис, толстый увалень, с детства страдавший заиканием. Когда моя сестра решила поехать в Москву, он собрался поехать вместе с ней. Естественно, что наша мама попросила Бориса помочь Але в дороге, а отец Бори обратился с той же просьбой к Але.
Она рассказывала мне, что, кажется, в Брянске, во время штурма вагона, Борис, у которого обе руки были заняты вещами, а билеты он держал во рту, пробиваясь к дверям, не выдержал и крикнул Але: «Д-давай!» — выронив билеты изо рта. Представьте себе обстановку: толпы обезумевших людей штурмуют вагон, под ногами месиво снега, Борис ухитряется между ног по-собачьи перекопать снег и… находит билеты!
За Марусей, милой тихой девочкой, я вроде «ухаживал». Однажды в «Гарях» я долго с ней гулял и получил втык от Марии Скорняковой, как старшей, что это компрометирует девушку.
Что я собой тогда представлял как молодой человек? По-настоящему я ни в кого не был влюблен. Так — серединка на половинку. К чему стремился? Неизвестно.
У меня сложились хорошие отношения с Гришей Полтавцевым. Я ему завидовал. Вот уж у кого не было никаких комплексов! Пришел, увидел, взял!
Когда я проходил в Белынковичах начальную военную подготовку, всеобуч, я часто заходил к Анне Львовне Барановской, о которой уже упоминал. В маленьком домике над самой Беседью, давно выселенная из господского дома, она жила одиноко, вся в воспоминаниях о прошлом. Она показывала мне альбомы с фотографиями МХАТовских спектаклей. Особенно я запомнил «Юлия Цезаря». Мы говорили на возвышенные темы, и я на время погружался в волшебный мир искусства…
У Реб Абрума, к которому меня определили на постой, после бесед с Барановской я возвращался в мир реальный. Реб Абрум держал небольшую лавочку, был озабочен вещами земными и все удивлялся, как большевики собираются строить жизнь? Когда он слышал, что мы пели, проходя мимо его лавочки строем, на мотив «Хаз-Булат удалой» «Комсомольцев семья, собирайся тесней, разобьем капитал, будем жить веселей!», он говорил мне:
— Ой, Лёшечка, какая глупая песня! Как же вы будете жить веселей, когда разобьете капитал? У вас будет не жизнь, а тьфу!
Живя у Реб Абрума, я бывал свидетелем забавных, по городским меркам, жизненных ситуаций. Например, когда корова телилась, а это происходило обычно зимой, то теленка брали на несколько дней в хату, чтобы он не замерз. Появилась такая телочка и у Реб Абрума. Когда она выгибалась дугой и поднимала хвост, собираясь справить свою естественную надобность, многочисленная детвора Реб Абрума поднимала страшный гвалт и с криком «Зи пист, зи пист», неслась за тазом, чтобы успеть подставить его телочке под хвост и предотвратить беспорядок в доме.
Заходил я в семью Соловецких, бывших местных помещиков: старик Соловецкий, гордившийся тем, что он и Гинденбург — одного года рождения, его невестка, скромная, тихая женщина. Я видел фотографии ее мужа, похожего на Макса Линдера[41], он бежал за рубеж и околачивался в Париже. Еще были там увядшая девушка и юноша, странный парень, который никак не мог взять в толк, как это махать руками в такт ходьбе — в строю он как-то странно взмахивал обеими сразу.
Интересно, в то время — 1922–1926 гг. — советская власть поступала принципиально и, на мой взгляд, достаточно гуманно. Лишая помещиков их социального положения, она их переселяла из собственных домов, давала небольшой участок земли для пропитания и — живи! И они жили и, как видим, давали возможность своей молодежи участвовать в общественной жизни.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего)"
Книги похожие на "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Симуков - Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего)"
Отзывы читателей о книге "Чертов мост, или Моя жизнь как пылинка Истории : (записки неунывающего)", комментарии и мнения людей о произведении.