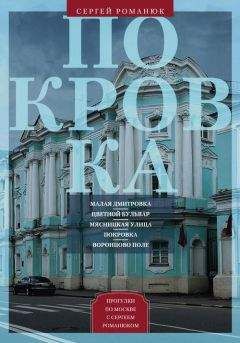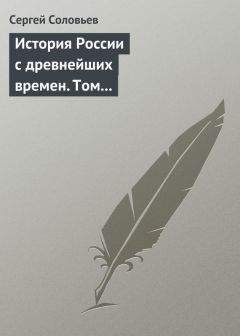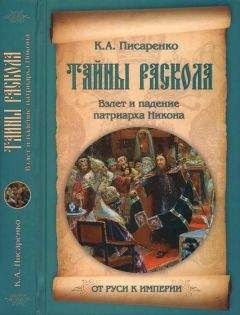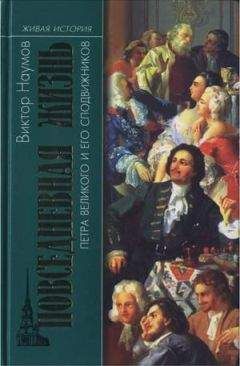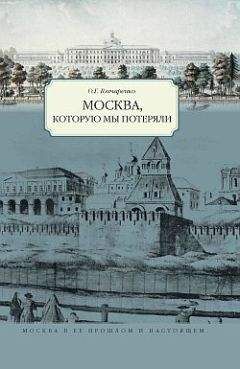Сергей Шокарев - Повседневная жизнь средневековой Москвы

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь средневековой Москвы"
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь средневековой Москвы" читать бесплатно онлайн.
Столица Святой Руси, город Дмитрия Донского и Андрея Рублева, митрополита Макария и Ивана Грозного, патриарха Никона и протопопа Аввакума, Симеона Полоцкого и Симона Ушакова; место пребывания князей и бояр, царей и архиереев, богатых купцов и умелых ремесленников, святых и подвижников, ночных татей и «непотребных женок»... Средневековая Москва, опоясанная четырьмя рядами стен, сверкала золотом глав кремлевских соборов и крестами сорока сороков церквей, гордилась великолепием узорчатых палат — и поглощалась огненной стихией, тонула в потоках грязи, была охвачена ужасом «морового поветрия». Истинное благочестие горожан сочеталось с грубостью, молитва — с бранью, добрые дела — с повседневным рукоприкладством.
Из книги кандидата исторических наук Сергея Шокарева земляки древних москвичей смогут узнать, как выглядели знакомые с детства места — Красная площадь, Никольская, Ильинка, Варварка, Покровка, как жили, работали, любили их далекие предки, а жители других регионов России найдут в ней ответ на вопрос о корнях деловитого, предприимчивого, жизнестойкого московского характера.
Еще одним безбородым государем был Лжедмитрий I, однако он имел на это право, будучи еще молодым человеком, — ему не было тридцати лет. На миниатюрах Лицевого летописного свода Иван IV до этого возраста также изображается без бороды. Безбородым показан на парсуне XVII века и герой Смутного времени, выдающийся полководец князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, умерший в 24 года. Другой деятель Смуты, приближенный самозванца Михаил Андреевич Молчанов, согласно описанию участников русского посольства к польскому королю Сигизмунду III, был, напротив «возрастом не мал», но бороду не отпускал: «…ус чорн, а бороду стрижет, на щеке бородавка с волосы»{570}. Сподвижник самозванца стрелецкий голова Григорий Иванович Микулин также носил только усы — об этом свидетельствует его портрет, написанный несколькими годами ранее в Англии, куда Микулин ездил посланником. Очевидно, что в годы Смуты бритье бороды на польский манер распространилось весьма широко. Смута закончилась, но «бритобрадцы» не перевелись. Протопоп Аввакум вспоминал: «Василей Петрович Шереметев, пловучи Волгою в Казань на воеводство, взяв на судно и браня много, велел благословить сына своего Матфея бритобрадца. Аз же не благословил, но от писания ево и порицал, видя блудолюбный образ. Боярин же, гораздо осердясь, велел меня бросить в Волгу и, много томя, протолкали»{571}.
Волосы на голове, как правило, коротко стригли или же брили голову. Посол Священной Римской империи Даниил Принц из Бухова описывает внешность Ивана Грозного таким образом: «Борода у него рыжая (rufa), с небольшим оттенком черноты, довольно длинная и густая, но волосы на голове [он], как большая часть русских, бреет бритвой». О том же говорит Петрей: «Перед большими праздниками все они, высшего и низшего звания, кроме только таких, которые в опале у великого князя, снимают волосы с головы бритвою»{572}. Опальные бояре и дворяне в знак печали волосы не стригли и не брили. Не стриглись и во время путешествий. Как и в случае с бородой, здесь не было единого для всех правила или канона. На миниатюрах Лицевого летописного свода можно видеть изображения мужчин с волосами средней длины, духовенство вообще не стригло волосы. Обнаруженные в погребении царя Федора Ивановича волосы были длиной пять-шесть сантиметров. По-видимому, он стриг и бороду{573}.
Борода была не только украшением, но и воплощением мужского достоинства. Таскать или дергать за бороду значило нанести оскорбление. Царь Алексей Михайлович в гневе таскал за бороды провинившихся бояр. Иван Грозный был более жесток — в 1547 году приказал мучить псковичей, бивших челом на своего наместника, — «бесчествовал, обливаючи вином горячим, палил бороды и волосы да свечою зажигал и повеле их покласти нагых на землю».
Большая борода дополнялась «дородством», сочетавшим физическую силу и полноту. «Мужчины у русских, большею частью, рослые, толстые и крепкие люди, кожею и натуральным цветом своим сходные с другими европейцами», — пишет Олеарий. «Русские обыкновенно высокие, крепкие, дородные и статные молодцы», — замечает Петрей. «Надо отметить, что летом все ездят верхом, а зимой на санях, так что не совершают никаких упражнений, что делает их жирными и тучными, они даже почитают наиболее пузатых, зовя их Дородный Человек, что означает славный человек…» — вторит им Маржерет{574}.
Идеалом средневекового мужчины мог считаться царь Иван Грозный. По отзыву Даниила Принца, «он очень высокого роста. Тело имеет полное силы и довольно толстое». Этому описанию вполне соответствуют результаты антропологического исследования останков царя, проведенного М.М. Герасимовым и его сотрудниками в 1963 году: «Он был высок и дороден (рост — 178 см, вес — не менее 85—90 кг). Судя по степени развития рельефа костей скелета, он был очень силен, смолоду хорошо тренирован»{575}. Могучим сложением отличался и воевода М.В. Скопин-Шуйский. «Повесть о преставлении и погребении князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского» рассказывает: «И тогда привезоша гроб каменен велик, но ни той довляше вместити тело его, понеже велик бе возрастом телес своих, по Давиду пророку рече “паче сынов человеческих”»{576}. Не столь могуч, но также вполне близок к средневековому идеалу мужчины был царь Алексей Михайлович — по описанию Мейерберга, «статный муж, среднего роста, с кроткой наружностью, бел телом, с румянцем на щеках, волосы у него белокурые и красивая борода; он одарен крепостью телесных сил, которой, впрочем, повредит заметная во всех его членах тучность, если с годами она всё будет увеличиваться и пойдет, как обыкновенно, в живот; теперь он на 36 году жизни»{577}.
Конечно, далеко не каждый москвич, будь то боярин или посадский человек, отличался физической крепостью, но полнота и степенность были обязательны для вельможи. Фигуре соответствовала и важность — медленная походка, плавные движения, властный взгляд. Солидное положение бояр подчеркивалось и многослойной одеждой — кафтан[21], ферязь, шуба, — и высокими «горлатными» (сшитыми из куньего или собольего меха, взятого с горлышек зверей) шапками, и символами власти — посохами. Парадное одеяние патриархов и царей весило десятки килограммов, поэтому во время торжественных церемоний их вели под руки бояре, что и называлось шествием. Принадлежность к сильным мира сего определяла и внешний облик, и одеяние, и манеру поведения.
«Каждый ходил в приличном состоянию костюме, выступал присвоенной званию походкой, смотрел на людей штатным взглядом. Занимал человек властное положение в обществе — он должен был иметь властные жесты, говорить властные слова, глядеть повелительным взглядом, с утра до вечера не скидать с себя торжественного костюма, хотя бы всё это было ему тяжело и противно. Родился князем Воротынским — поднимай голову выше и держи себя по-княжески, по-воротынски, а стал монахом — так и складывай смиренно руки на груди и береги глаза, опускай их долу, а не рассыпай по встречным и поперечным, — пишет В.О. Ключевский. — Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамаке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину по костюму, посадке и самой физиономии всадника видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что ведь он — столп, за который весь мир держится, как однажды выразился про родовитых бояр знаменитый, но неродовитый князь Пожарский»{578}.
Важной особенностью средневекового мироустройства было господство мужчины не только в общественной и семейной жизни, но также в культуре и искусстве. Вся культура была мужским миром, итогом мыслительной и творческой деятельности мужчин (за исключением такого жанра декоративно-прикладного искусства, как лицевое шитье). Поэтому, читая отзывы иностранцев о грубых крепышах-бородачах, которыми представлялись западноевропейцам московиты, нельзя забывать о том, что мужчины средневековой России не только грудью стояли на защите Отечества, омываясь в крови, и строили крепости, храмы и дома, обливаясь потом, но также создали своими руками все произведения искусства и литературы той поры, которыми мы восхищаемся и поныне. Иконы и фрески Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия, Симона Ушакова, «Слово о полку Игореве», «Задонщину», «Повесть о Дракуле», сочинения Андрея Курбского, Ивана Грозного, Авраамия Палицына, Семена Шаховского, протопопа Аввакума, Симеона Полоцкого — эти шедевры русской средневековой культуры были созданы мужчинами — «государями» того мира.
Облик средневекового москвича получился не столь ярким, как портрет москвички, следующий далее в нашем повествовании. Отчасти это объяснимо. Помимо того, что мужская природа проще и примитивнее женской, последняя была предметом дискуссий, изысканий и специальных сочинений. Понятие «муж» не требовало особых комментариев. «Муж» господствовал внешне, он всегда был на виду, тогда как женщина, скрываясь в его тени, оставалась загадочной фигурой, объяснения которой сами же мужчины и предлагали.
О злых и добрых женах
В древнерусской духовной литературе созданное монахами учение о «злых» и «добрых» женах претендовало на понимание женской природы. К счастью для наших предков, аскетическое представление о женщине не принималось как безусловное руководство к действию. Несмотря на явное неравноправие полов, положение женщины в средневековой Москве всё же не было столь унизительным, как это представлялось историкам XIX века, например Н.И. Костомарову, писавшему: «Русская женщина была постоянною невольницею с детства и до гроба»{579}. Исследования последних лет показывают, что семейный и общественный статус женщины на протяжении средневекового периода российской истории претерпевал существенные изменения. Господство того уклада, который можно условно назвать «теремным рабством», одновременно с активной проповедью женофобии приходится на весьма недолгий срою середину XVI — первую половину XVII столетия{580}. Впрочем, и в этот период, как свидетельствуют разнообразные источники, женщина не являлась такой уж бесправной и забитой.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь средневековой Москвы"
Книги похожие на "Повседневная жизнь средневековой Москвы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Шокарев - Повседневная жизнь средневековой Москвы"
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь средневековой Москвы", комментарии и мнения людей о произведении.