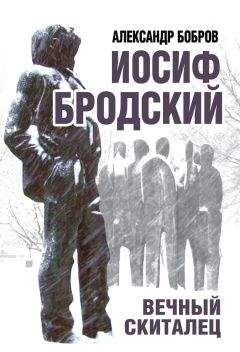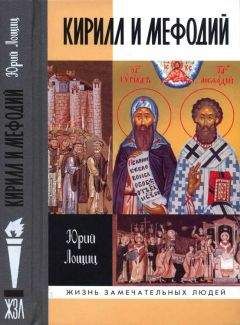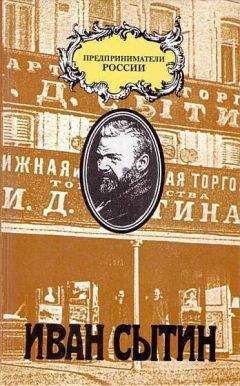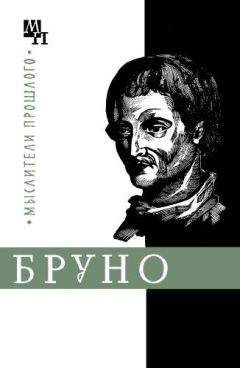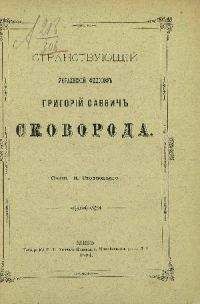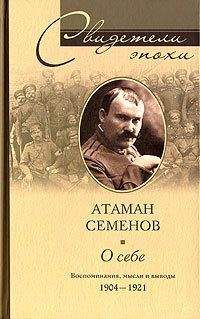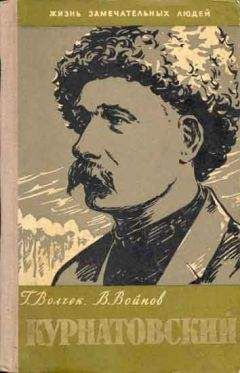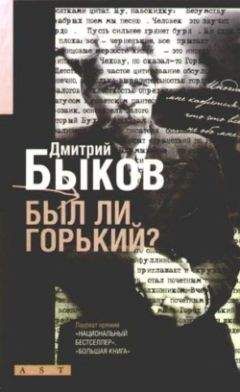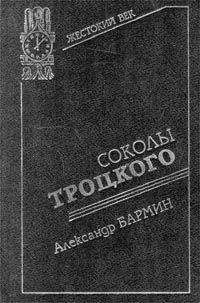Юрий Лощиц - Григорий Сковорода

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Григорий Сковорода"
Описание и краткое содержание "Григорий Сковорода" читать бесплатно онлайн.
Ю́рий Миха́йлович Ло́щиц (р. 1938) — русский поэт, прозаик, публицист, литературовед. Лощиц является одним из видных современных историков и биографов. Г. Сковорода — один из первых в истории Украинской мысли выступил против церковной схоластики и призвал к поискам человеческого счастья.
Акт самопознания не есть некоторая насильственная самоизоляция от мира. Подчеркнутое внимание Сковороды к человеку зиждется на убеждении, что только в акте самопознания человек обнаруживает свое истинное место и предназначение в мире и, таким образом, раскрывает для себя целесообразность и истинное содержание мироустройства. Большой мир — макрокосм — может быть понят в принят только через человека, через микрокосм, «малость» которого по отношению к макрокосму снимается в процессе самопознания. Снимается потому, что этот процесс обнаруживает центральное место «истинного человека» в материальном мире. «Великое» посрамлено «малым», которое открывается как безграничное поле духовных возможностей. «Что может обширнее разлиться, как мысли? О сердце!.. Все объемлешь и содержишь, а тебя ничто не вмещает».
Большой мир чужд и враждебен человеку лишь постольку, поскольку человек остается чужд и неясен самому себе. В благодатном даре самопознания разрушается антагонизм макро и микрокосма, обнаруживается их соизмеримость, взаимное достоинство и космическая родственность. «Я верю и знаю, — пишет Сковорода, — что все то, что существует в великом мире, существует и в малом, и что возможно в малом мире, то возможно и в великом…»
Если человек, познающий себя, становится преображенным микрокосмом, то существо, которое уклоняется от этого истинного призвания, являет собою дочеловеческий. хаос, смесь противоречивых свойств, наклонностей, устремлений. Вот его гротескный портрет: «… красуется, как обезьяна; болтает и велеречит, как римская Цытериа; чувствует, как кумир; мудрствует, как идол; осязает, как преисподний крот… ласков, как крокодыл; постоянен, как море; верный, как ветер; надежный, как лед; разсыпчив, как прах; ищезает, как сон… Сей всяк человек ложный: сень, тьма, пар, тлень, сон».
Это, как видим, очень «театральный», очень «маскарадный» портрет, своего рода каталог личин и масок, которые надевает на себя человек, вольно или невольно лицедействуя на «театре света». Его индивидуальная особенность оказывается погребенной под ворохом чужеродных наклонностей, привычек, жестов, поз.
Каковым себя ощущает человек, то есть малый мир, таковым же представляется ему и мир великий. Смятенной душе «гнусны кажутся соседы, невкусны забавы, постылые разговоры, неприятны горничныя стены, немилы все домашние… хулит народ свой и своея стороны обычаи, порочит натуру, ропщет на бога и сама на себе гневается. Тое одно сладкое, что невозможное… завидное, что отдаленное. Там только хорошо, где ея, и тогда, когда ея нет. Больному всякая пища горка, услуга противна, а постель Жестка. Жить не может а умреть не хочет».
Но почему же так запутался человек в выяснении отношений между желаемым и действительным? Какие внутренние обстоятельства осложняют задачу самоустроения человека в мире? Отчасти задача осложнена тем, что человек слишком расточительно и капризно пользуется своими познавательными возможностями. Есть Наркисс мудрый, но остается и Наркисс буйный, «буий», который разумеет только наружную оболочку вещей. Есть опьянение внешним познанием, соблазнительная и иллюзорная возможность получить совершенное представление о большом мире до того, как познан мир малый. «Скажи, пожалуй, — иронизирует Сковорода по поводу подобного положения вещей, — естли бы житель изгородов, населенных в Луне, к нам на наш шар земной пришол, не удивился бы нашей премудрости, видя, что небесныя знаки толь искусно понимаем, и в то же время вне себя стал бы наш лунатик, когда б узнал, что мы в экономии крошечного мира нашего… ничего не примечаем и не радим удивителнейшей всех систем системе нашего телышка».
В этой фантастической сценке, написанной задолго до многочисленных «лунных» романов, гораздо больше грусти, чем юмора. Называя человеческое «телышко» системою систем, Сковорода, конечно, имеет в виду не анатомо-физиологическую, так сказать, сторону объекта. Ведь если человека изучать только с этой стороны, то в результате получится все тот же буйный и поверхностный нарциссизм, упорное нежелание «войти в дом свой». Нет, здесь, как и везде, он ведет речь о духовных пространствах и измерениях человека. Принцип «познания себя» насыщен для мыслителя значением, весьма отличающимся от того, какое закрепилось за ним в более поздние времена. Если, например, в научной практике конца прошлого века задача самопознания сводилась лишь к самонаблюдению, то есть к одной из функций описательной психологии (человек стремится как можно полнее выявить механизмы и закономерности своего психологического «я»), то для Сковороды «познание себя» — акт не столько пассивно-исследовательский, описательный, сколько волевой, творческий, направленный на обнаружение и утверждение в каждом человеке его нравственного ядра, «вечного сердца».
В диалоге «Асхань» (так же как и «Наркисс», он по-сит подзаголовок «о познании себя») есть выразительное описание этого целенаправленного творческого делания: «Ищи, стучи в двери, мети хорошенько дом. Рый в нем. Перебирай все. Выведывай закаулки. Выщупывай все потайники, испытывай, прислушивайся — сие-то есть премудрейшее и вселюбезнейшее любопытство и сладчайшее. Сия-то наука глубочайшая и новейшая. Новая затем, что нигде ея не обучаются. А предревняя потому, что самонужнейшая. Где ты видел, или читал, или слышал о щастливце каком, который бы не внутрь себе носил свое сокровище? Нельзя вне себе сыскать. Истинное щастие внутру нас есть. Непрестанно думай, чтоб узнать себе».
Итак, самопознание не единичный акт, но длительный процесс. Самое же начало этого процесса знаменуется, по мысли Сковороды, ясным осознанием природы человека. Здесь и вступает в действие его антитетический метод: в микрокосме, в человеке, есть две природы: внутренняя и внешняя. Одна природа характеризуется как незримая, духовная, истинная, вечная; другая — представлена в качестве осязаемой, наружной, тварной, она аще «бренное линовище», «телышко».
Снисходительно и ласкательно именуя людскую плоть «тельником», Сковорода никогда, однако, не доводит этого своего снисходительного отношения до мизантропических выпадов в адрес «телышка» — своего ли, человеческого ли вообще. Для него лишь принципиально важно знать о том, что есть хозяин в человеке — внутренняя или внешняя природа: или «телышко» помыкает душой, или она умно и строго путеводительствует «перстному» человеку. Тот, в ком внутренняя природа утеснена своеволием внешней, — тот лишь жалкая видимость человека, нечто уродливо одностороннее, кажущееся. «Ты соние истинного твоего человека».
Каждодневность обнаруживает, что в конкретном человеке есть главное — внутреннее или внешнее начало. Но принципиально главным в нем должно быть всегда одно и то же. «Не внешняя наша плоть, но наша мысль то главный наш человек. В ней-то мы состоим. А она есть нами».
Размежевание человека по границе души и «телышка» — лишь первое слово в антропологическом учении Сковороды. Ведь сама по себе душа вовсе не есть абсолютный полюс блага. В этом «теле духовном» при ближайшем рассмотрении обнаруживаются свои противоборства, своя двуполярность. Человек пребывает плотью в одном определенном месте, а душа, его непрестанно кочует в иных пространствах и временах, завидуя тому, что было, или тому, чего еще не было, не удовлетворенная тем, что есть сейчас. Вольная странница, вечно недовольная душа — с этим образом связано представление Сковороды о «воле» как об очередном факте человеческой природы, который открывается в процессе самопознания.
«Воля» в лексиконе мыслителя — слово чрезвычайно емкое, значительное и в определенном смысле совершенно противоположное нашим современным представлениям о воле («волевой человек», «сила воли»), как о силе, упорядочивающей и регламентирующей частное поведение человека. «Воля» у Сковороды — это изначально присущая человеческой душе свобода самопроявления и самоопределения в мире. Душа в мире не рабыня, но свободная, однако умеет ли она пользоваться своей свободой, этим щедрым дарованием? В том-то и беда, что сплошь да рядом не умеет, и воля то и дело оборачивается своеволием, свобода — своевластием. Человек, как ни парадоксально, на каждом почти шагу делается рабом своей капризной и ненасытимой воли.
Эта вот свобода, чреватая узами, и воля, растрачивающая себя на вольничание, и ость, по понятиям Сковороды, не только источник душевного нестроения частного человека, но и возможность для укоренения зла на земле. Ибо в мире вообще нет ничего злого по устройству своему и предназначению, и только воля людской души, пускаясь в своевольство, непрестанно плодит и плодит зло. «Вот, например, — шутливо замечает по этому поводу философ, — наложил кто на голову сапог, а на йоги шапку. Безпорядок зол подлинно, но чтоб шапка или сапоги жизни человеческой неполезны были, кто скажет?»
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Григорий Сковорода"
Книги похожие на "Григорий Сковорода" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Лощиц - Григорий Сковорода"
Отзывы читателей о книге "Григорий Сковорода", комментарии и мнения людей о произведении.