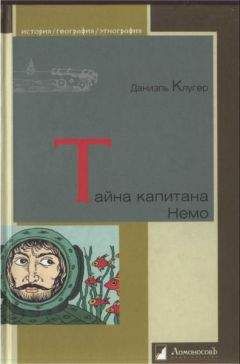Татьяна Москвина - В спорах о России: А. Н. Островский

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "В спорах о России: А. Н. Островский"
Описание и краткое содержание "В спорах о России: А. Н. Островский" читать бесплатно онлайн.
Для русской драматургии А. Н. Островский сделал ничуть не меньше, чем Шиллер — для немецкой и Расин с Мольером вместе взятые — для французской. Он — автор сорока семи пьес, большинство из которых уже сто пятьдесят лет не сходит с театральных подмостков и украшает репертуары как столичных, так и провинциальных российских театров.
В этой книге известный писатель, драматург и театровед Татьяна Москвина раскрывает перед нами грани неординарной личности А. Н. Островского, своеобразие его мышления и творчества, попутно анализируя последние театральные постановки и экранизации пьес великого драматурга, которого при жизни в московских и петербургских императорских театрах восхищенно называли «наш боженька».
Демон объявляет им войну — не солнцу и Христу, перед ними он ничтожен, а своим подданным: Катерине, Варваре, Тихону. Земная, простая Варвара сбегает с Кудряшом, по своей воле и в согласии с природой. Самостоятельная человеческая воля начинает производить решительные действия.
Кабаниха, верная слуга «темного лика», не желает смерти Катерины, но лишь ее подчинения, самоумаления. «Мучайся». Смерть Катерины — бунт против «темного лика» и всех его запретов. «Молиться не будут? Кто любит, тот будет молиться».
В христианской этике самоубийство впрямь тяжелый грех. Над самоубийцами нельзя читать молитвы. Даже высокопоставленный дворянин Лаэрт и сам король не вправе заставить священника отпеть Офелию полным чином, как мы помним из «Гамлета». А это лишь по подозрению в самоубийстве. Сколько все-таки жестокости в морали, не позволяющей даже пожалеть несчастного, который наложил на себя руки, верно, не от легкой жизни.
Слова Катерины: «Кто любит, тот будет молиться» — заповедь, оставленная нам Островским. Он не бунтует, не считает себя вправе учительствовать, реформировать, пропагандировать своего Бога. Но его заветный Бог — не казенный, не нормативный, не запрещающий и не указывающий.
Последние слова о Катерине — Кулигина: «… душа теперь не ваша: она теперь перед Судией, который милосерднее вас!» Кулигин поднял из Волги тело Катерины, а душа ее, видимо, ушла к Богу Кулигина, исполненному любви и сострадания к своим земным детям.
«После смерти своей, — пишет Лебедев, — Катерина сохраняет все признаки, которые, согласно народному поверью, отличают святого человека от простого смертного, — она и мертвая как живая»[111].
Душа прошла по мытарствам и вернулась к Отцу, «который милосерднее нас».
Люди, боги и черти в драматургии А. Н. Островского от «Грозы» (1859) до «Снегурочки» (1873)
После грозного сражения богов, демонов и героев в «Грозе» Островский, судя по всему, отдохнул душой, вернувшись в заповедную область «Божьего попущения», в царство судьбы и случая, к милому Мише Бальзаминову. В пьесах «Свои собаки грызутся — чужая не приставай» (1861) и «За чем пойдешь, то и найдешь» (1861) «нет и намека на противовес запечатленной здесь жизни. Она всюду разлилась, все собой поглощает. В ней ничего не может быть — и все может быть. ‹…› В этих… ‹…›… пьесках с их нелепыми, нескладными, недалекими героями и общей властью случая, всяческой беззаконности, смех если и сетует, и уязвляет, то только отчасти, слегка. В основном же, по главному своему качеству, это смех-любовь»[112].
Да и как не полюбить смиренных служителей судьбы, которые, бывает, немножко обижают друг дружку, но не казнят, не терзают, не грабят, не обманывают жестоко. Это царство русской душевности, смешной и привлекательной одновременно.
Душа без духа-руководителя нередко попадает в нелепые положения, вот отчего русская мещанская душевность всегда несколько комична и глуповата. Дух-руководитель не забредает в это захолустье, ему, верно, недосуг; жители «области Божьего попущения» неразумны, но душевны. А душа все-таки занятная субстанция, любящая творчество: даже будучи в плену у материи, не преминет расписать свою темницу узорами. Не зря Е. Калмановский уподобляет речевую вязь пьес о Бальзаминове «раскрашенному яйцу, замысловатому прянику, игрушке или шкатулке, расписанной любовно и хитро».[113] «Шкатулка» русской мещанской душевности заперта наглухо: и от слишком грозных требований природы, и от козней лукавого, и от проповедей «милосердного Судии», и от действий просвещенного разума. В этот маленький тихий рай может попасть лишь тот, кто, во-первых, полностью лишен духовных запросов (иначе затоскует, запьет!); во-вторых, обладает скромными материальными потребностями (а то начнет возмущать спокойствие или впадет в «грех Иуды»); в-третьих, не имеет слишком сильной и страстной натуры (начнутся коллизии власти солнца); и в-четвертых, хранит в себе незатейливую, но светлую и веселую душевность.
Кажется, много препятствий, однако в русской жизни на всем протяжении ее трагически узловатой истории «область Божьего попущения» населена густо, плотно.
В период между «Грозой» и «Снегурочкой» Островский часто отдыхал душой, создавая маленький, смешной, малоразумный, но светлый и незлобивый мир-гнездо, которое ухитрилась свить душа без духа-руководителя. В «области Божьего попущения», я думаю, происходит действие не только пьес о Бальзаминове, но и пьес «Старый друг лучше новых двух», «Тяжелые дни» и «Не все коту масленица».
От пьесы к пьесе жизнь маленьких душевных людей все более смягчается, просветляется, все более становится подвластна их воле. И если Андрею Титычу Брускову в «Тяжелых днях» помог устроить судьбу веселый симпатичный Досужев, явно «лицо от автора», то семейство Кругловых в «Не все коту масленица» обошлось своими силами и впервые в творчестве Островского не поклонилось деньгам, не стерпело власти самодура Ахова. Так что злобно-торжествующий крик Кабанихи в финале «Грозы»: «Вот, сынок, куда воля-то ведет!» — так при ней и остался; людям воля нужна, люди от нее лучше становятся — во всяком случае, те люди, что живут в «области Божьего попущения», маленькие душевные люди.
Между «Грозой» и «Снегурочкой» написано восемнадцать пьес. Их условно можно разделить на несколько циклов по развивающимся в них темам и мотивам.
Первый цикл — уже упомянутый цикл пьес о Бальзаминове, где живут смех и слезы русской мещанской душевности и звучит тема власти судьбы и постепенного очеловечивания «области Божьего попущения».
Второй цикл — цикл исторических пьес. (О них я подробно пишу в главе «Русская история в “совестном суде”». В них русские люди и русская жизнь берутся в момент исключительного исторического напряжения, чувство веры чрезвычайно обострено, мы видим русских в ситуациях духовного преступления или подвига.
В душе народа живет гениальная способность к вере, но и не менее гениальная способность к предательству веры. Необходимость мощного самоволия, решительного изъявления собственной воли, которая была вызвана Смутным временем, потрясла народ и напрягла все его силы.
Но прошли подвиги, сгинули преступления, наступили будни. «Воевода» Островского, чье действие происходит в середине XVII века, возвращает нас к устоявшемуся, привычному, обыденному житейскому укладу. Это широчайшая поэтическая картина старой русской жизни, ее нравов и обычаев, верований и страстей.
В своем художественном исследовании русского духовного обихода Островский возвращается на два столетия (от себя) назад и, соединяя комедийную и драматическую тональность, пишет русскую духовную многоукладность, «эпоху двоеверия», соединявшую христианские и языческие верования и обычаи в нечто единое. Как же это выглядело в русском быту?
«Эпоху двоеверия» на уровне самой обыденной жизни мы увидим с самого начала пьесы. Воевода Нечай Шалыгин, единоличный правитель города, рассказывает случай, как его конь вдруг встал, не шел из лесу: «…Вот я слез, перекрестился, обшел вокруг три раза, зачурался, и ничего — мой конь пошел как надо». И перекрестился, и зачурался! («Чур» — по словарю к пьесам Островского — восклицание в значении «не трогай, не касайся»; восклицание, призывающее нечистую силу к соблюдению какого-то условия, уговора[114].)
Я писала в главе о «Грозе» про сложное сосуществование верховных, внечеловеческих сил, соблюдающих негласный договор о сферах влияния. Вот и Нечай Шалыгин призывает нечистую силу помнить границу, соблюдать договор. И неизвестно, что помогло, что подействовало, крест или чур — а ведь помогло же.
Старая нянька Недвига рассуждает: «Что в тереме, что в церкви, ты завсегда спасенный человек; там образа, закрещены все двери. А что в саду? Ту т вольная земля, ну, значит, он, оборони Создатель, свободно ходит». Одна из девушек предлагает: «А зачураться, не подойдет». — «Все: Чур! Наше место свято».
Двоеверие выказывается в двойственных обрядах, исполняемых по-простому, без рефлексии. Перефразируя изречение Глафиры Фирсовны из «Последней жертвы» («Совсем не обедать нездорово, а по два да по три раза хоть бы каждый день Бог послал»), можно сформулировать постулат русского двоеверия так: «Совсем не веровать нехорошо, а по две да по три веры хоть бы каждый день кто-то послал»…
Дальше — больше: воевода, оказывается, давно держит в тюрьме некоего волхва Мизгиря. «…Без Мизгиря ни шагу. Уж давно бы его казнить пора за чародейство, а он в тюрьме его томит; да днем ли, ночью ль, во всякий час к себе в покои водит, по книгам смотрит, в шестокрыл и рафли». «Шестокрыл» и «Рафли» — старинные астрологические и гадательные книги. Несмотря на солидный возраст суеверий, Островский относится к ним, как обычно, без всякой почтительности. Мизгирь — такой же «надувательный», жуликоватый волхв, какою позднее в творчестве драматурга предстанет гадалка Манефа («На всякого мудреца довольно простоты»), его можно купить и он скажет, что велено. Зачем поехал в лес воевода Шалыгин — неясно, всем он говорит разное. «Там и зверя погоняем денек, другой». «А вот, дай срок, схожу на богомолье». Зверя гонять или на богомолье? А может, и то и другое разом? Двоеверие ведет к определенному лукавству, двойственности поведения, но это двойственность не специально лицемерная, осознанно-хитрая, а органическая, русская.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "В спорах о России: А. Н. Островский"
Книги похожие на "В спорах о России: А. Н. Островский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Татьяна Москвина - В спорах о России: А. Н. Островский"
Отзывы читателей о книге "В спорах о России: А. Н. Островский", комментарии и мнения людей о произведении.