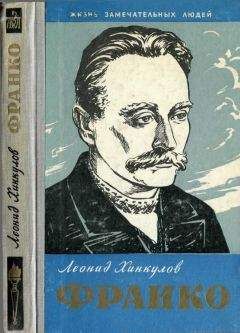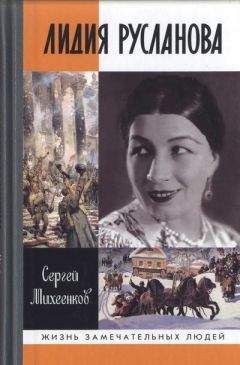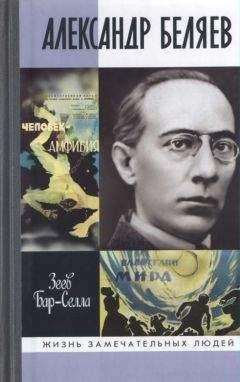Наталья Скороход - Леонид Андреев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Леонид Андреев"
Описание и краткое содержание "Леонид Андреев" читать бесплатно онлайн.
Книга о знаменитом и вызывающем отчаянные споры современников писателе Серебряного века Леониде Андрееве написана драматургом и искусствоведом Натальей Скороход на основе вдумчивого изучения произведений героя, его эпистолярного наследия, воспоминаний современников. Автору удалось талантливо и по-новому воссоздать драму жизни человека, который ощущал противоречия своей переломной эпохи как собственную болезнь. История этой болезни, отраженная в книгах Андреева, поучительна и в то же время современна — несомненно, ее с интересом прочтут все, кто увлекается русской литературой.
знак информационной продукции 16+
«Вчера, когда ехали с вокзала по этим улицам, среди этого города, мне жаль было свою Россию — невежественную, бедную, несчастную, обливающуюся кровью» — первая встреча с тем старым Берлином — мощным, удобным для жизни, красивым, утопающим в зелени — еще не разрушенным Второй мировой войной — мгновенно сделал орловца и русака Андреева убежденным западником. «Был дурак, что до сих пор не ездил за границу, — пишет он оставшейся в Москве матери. — Как красиво, как непохоже на наше, как богато!»[253] Его язык как будто уже «настраивался», чтобы вскоре создать здесь, в Берлине, один из своих шедевров — «Жизнь человека». Помните? — «Как богато! Как пышно! Как светло!»
Поселившись в пансионе на Lützow-Strasse, 46, Андреевы оказались в гуще европейских событий — политических, культурных — новый непривычный ритм полностью поменял их быт: московская расслабленность сменилась европейской деловитостью. «Заграница приучила меня лично к аккуратности, а характеру моему придала стойкость, непреклонность, всему же остальному душевному миру моей психологической конституции дала необходимый колорит», — с какой-то детской радостью пишет он Евгению Чирикову[254]. Поначалу его душа — как будто по инерции — живет интересами революции: в первые дни в Берлине Андреев посещает немецкий парламент — рейхстаг, чтобы послушать выступление одного из лидеров немецкой социал-демократии — знаменитого Августа Бебеля, а в конце декабря читает «К звездам» в Общественном доме района Моабит, его слушают около двух тысяч человек — в основном русских эмигрантов, большинство из которых — политические, вечер этот плавно переходит в митинг с весьма смелыми лозунгами. При этом Андреев отчаянно ругает немцев за отсутствие революционного духа: «Социал-демократы — да, но их так мало, они так незаметны, как капля соленой воды, как слеза, они растворяются в море пресного мещанства. Почти вся немецкая печать — за двумя, тремя исключениями — радуется каждой неудаче революционеров, инсинуирует, шипит. О русских делах сообщают очень мало, столько же, сколько о передвижении ихнего кайзера по Берлину, и называют их „Беспорядки… хаос в России“».
«Беспорядки и хаос в России» — начавшееся в Москве в декабре 1905 года вооруженное восстание, баррикады на Красной Пресне заставляют Андреева отчасти испытывать стыд беглеца, перемешанный с искренним беспокойством за оставленную мать и близких. «Трудно думать и говорить о чем-нибудь другом, кроме героической и несчастной Москвы. <…> Ведь у нас там полтора десятка одних родственников, и все — в районе артиллерийского огня, — пишет он Пятницкому, — знал бы — сил не хватило уехать»[255]. В конце концов, он добивается, что бедная, не знающая ни единого слова ни на одном из европейских языков Анастасия Николаевна весной 1906 года все же направляется к сыну, захватив с собой в Швейцарию непременный атрибут андреевского быта — московский медный самовар. Она будет выходить не на тех станциях, стремительно убегать от заботящихся о ней русских попутчиках и вопрошать перепуганных швейцарцев о том, не видели ли они ее сына-писателя — Леонида Андреева. Но, несмотря на все нелепости и перипетии, Анастасия Николаевна встретилась-таки с Колочкой, Шурочкой и Диди, и беспокойство Андреева о событиях на родине несколько поостыло.
Но и до приезда матери наш герой так или иначе отдаляется от бурлящей российской реальности: здесь, в Германии он оказывается, наконец, один на один с великим зданием европейской культуры и этот мир вовсю колдует над его душой. «Живем мы в Мюнхене хорошо — насколько возможно жить хорошо сейчас, — пишет Андреев в Россию после того, как в середине января 1906 года семья переехала из Берлина в столицу Баварии. — Нет ни одного знакомого — и жизнь моя проходит между посещением галерей и музеев (удивительных!) и усиленной работой. Своей поездкой я вообще очень доволен: заграница раздвинула мне голову и дала новые мотивы для работы. Есть вещи — задуманные, — которые могли родиться только здесь»[256]. Закончив «Савву», он признается, что вещь эту «можно было написать только при двух противуположных влияниях: заграницы и российских зверств». А уже через несколько месяцев, изрядно поправев, Андреев будет настойчиво звать в Германию друга-подмаксимовика — писателя и драматурга Евгения Чирикова: «И вот что я тебе скажу, по-дружески… в России… ни тебе, ни мне, ни даже Горькому работать невозможно. Даже на революционные темы, сидя в России, писать невозможно: чтобы описывать шторм, нужно по меньшей мере находиться на берегу, а не на корабле, где, кроме морской болезни, ничего другого в момент бури не испытаешь». Окончательно приняв решение провести за границей не три месяца, а более года, Андреев как будто и вовсе перестал скучать по родине: «В России нашему брату можно подохнуть от тоски, от злости, от галлюцинаций — но не работать» [257].
Его впечатляют собрания берлинских и мюнхенских галерей, его поражает живопись швейцарского символиста Арнольда Бёклина, автор «Острова мертвых» близок Андрееву и по стилистике, и по сути: застывшие пейзажи и бледные, безжизненные, как будто окаменевшие люди, с кожей, напоминающей о мраморе или анатомическом театре, живописные руины на фоне многозначительно-черных небес, — что ж, за каменной кулисой на каком-нибудь полотне Бёклина вполне мог прятаться Некто в сером — персонаж будущей пьесы Андреева. Здесь, в тишине мюнхенской пинакотеки, впервые возникнут тревожные и неясные мысли о странной по форме драме, ирреальной, но не символистской… Леонид Николаевич чувствует, что шедевры прошлого будоражат его воображение, и — как всегда — увлекается: он жаждет ехать дальше на юг — в Италию, туда — к античным обломкам, к детству христианства… Но, очевидно, не получив на это ни благословения, ни кредита от Пятницкого, вместе с семейством перебирается в маленький швейцарский Глион.
Глион — небольшой городок, недалеко от Женевского озера на Швейцарской Ривьере; от знаменитого Монтрё в начале века к нему поднимались на фуникулере, среди благоухания розовых кустов, над водами одного из самых нежных озер на свете… Само название отеля — «Монт-Флери», стоящий в дверях швейцар в позументах, длинные тягучие коридоры, в которых таяли звуки даже самых решительных шагов, — все это, несомненно, располагало к жизни респектабельной, буржуазной, уютной и далекой от каких-либо, а уж тем более российских проблем.
В марте нарочно, чтобы повидаться с Андреевыми, сюда из Франции приезжают Горький и Мария Федоровна: как ни парадоксально, Буревестник также удирает из России в разгар московских событий: через несколько дней этой паре предстоит сесть на океанский лайнер и отбыть в Соединенные Штаты, где писатель-общественник будет «собирать средства» для русской революции, а бывшая примадонна МХТ — станет его секретаршей и переводчиком. Теперь же Горький остановился в том же «Монт-Флери», и гуляя по горным дорожкам, обедая в небольшой красивой столовой на белоснежных крахмальных скатертях, друзья успели переговорить о партиях в политике и в литературе, о Германии и Франции, запивая фондю дорогим белым вином, они подписали воззвание «К рабочим Швейцарии», призывая тех оказать материальную помощь бастующим рабочим России… Сидя на мягком диване в салоне отеля, Андреев прочел вслух «Савву», которого Горький не только расхвалил, но даже — что, впрочем, случалось с Буревестником частенько — восхитился, прослезился и забрал с собой рукопись пьесы о русском Антихристе, дабы «продавать театрам Америки». Как воды Женевского озера, их отношения были в ту пору спокойными и мирными… «Горький, кстати, третьего дня уехал с Марией Федоровной в Америку. Пробыл здесь, в нашем пансионе, две недели и был мил, как только может быть мил, когда захочет»[258], — отчитался Андреев Вересаеву вскоре после отъезда друга. Впрочем, друг Горький запомнил эту встречу несколько иначе, впоследствии он писал, что ему «показалось, что он (Андреев. — Н. С.) несколько поблек, потускнел, в глазах его остеклело выражение усталости и тревожной печали. О Швейцарии он говорил так же плоско, поверхностно и то же самое, что издавна привыкли говорить об этой стране свободолюбивые люди из Чухломы, Конотопа и Тетюш»[259]. Судя по письмам и воспоминаниям, не в восторге остался Максимушка и от «Саввы». Хотя… после разрыва с другом Леонидом тот на многое посмотрел иначе, его очерк об Андрееве полон язвительности, порою переходящей в ядовитый сарказм. Причины две: пришедшая вскоре к Андрееву невероятная слава — слава первого беллетриста и драматурга России и бунт Леонида против опеки «Большого Максима».
Конечно же одним из главных интересов Андреева за границей становится европейский театр. В глубине души понимая, что обе его первые пьесы грешат болтливостью и что, по меткому кугелевскому определению, сценам недостает действия, то есть «кризиса души и столкновения страстей»[260], наш начинающий драматург пытается сопоставить собственный опыт с немецкими образцами. Берлинский театр «нулевых» годов XX века был едва ли не более интересен, чем русский: работали там Макс Рейнхард и Отто Брам, именно в режиссуре последнего Андреев видел спектакль «Ткачи» по пьесе Герхарда Гауптмана в знаменитом «Лессинг-театре». «„Ткачи“ хороши до того, что можно на сцену полезть… <…> Дивные актеры; художественное, тонкое, осмысленное исполнение, — делится он с лучшим другом, пьесы которого уже несколько лет идут в Берлине. — Kleines theater, судя по тому, как играют „На дне“, — плохо. Говорят; при Рейнгарте играли „Дно“ лучше, но сейчас отвратительно <…> …весь художественно-философский смысл пьесы — утрачен»[261]. Действительно, как раз в 1905 году один из ярчайших режиссеров и реформаторов немецкой сцены Макс Рейнхард перешел из Kleines theater в Deutsches theater, и вполне возможно, что поставленный им в начале 1903 года по горьковскому «На дне» знаменитый спектакль «Ночлежка» несколько выдохся и потерял первоначальных исполнителей…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Леонид Андреев"
Книги похожие на "Леонид Андреев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Скороход - Леонид Андреев"
Отзывы читателей о книге "Леонид Андреев", комментарии и мнения людей о произведении.