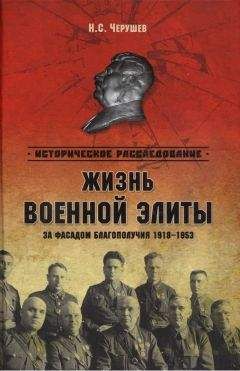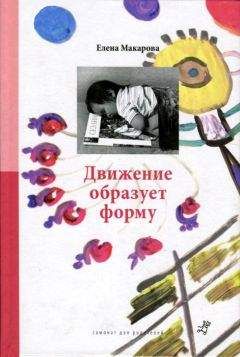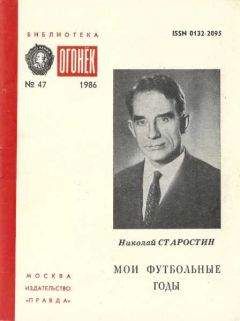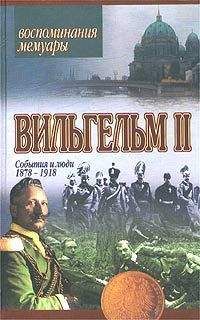Николай Ильюхов - Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг.
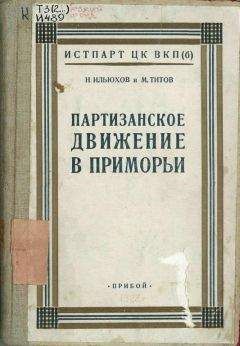
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг."
Описание и краткое содержание "Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг." читать бесплатно онлайн.
В регулярных войсковых частях старой армии для внедрения дисциплины служил огромнейший арсенал всевозможных мер, как-то: концентрация солдат в казармах, наличие многоступенчатой лестницы командного состава — от ефрейтора до генерала, специальная долбежка уставов, инструкций, гауптвахта для особо строптивых и непокорных и вся вообще шпицрутенская система. Партизанские отряды — это совершенно иное по природе своей войско, к которому методы воспитания по принципу беспрекословного подчинения начальству ни с какой стороны не приложимы. Единственная основа, на которой можно создать и привить революционную дисциплину, это развитие сознательности бойцов, понимание ими той ответственной роли, которую возложила на них история.
При первоначальном формировании отрядов не производилось достаточно строгой фильтрации вступающих бойцов, и поэтому в среду их естественно проникал сорный элемент — трусы, воришки, охотники до сули (корейский самогон) и прочие типы криминального порядка. Не спаслись отряды и от проникновения в них шпиков и агентов колчаковских контр-разведок, пришедших с гнусными разрушительными намерениями. Они, как только могли, разлагали неокрепшие ряды партизан, и вот в отношении этих-то вредных элементов нужны были какие-то меры борьбы и притом меры, рассчитанные на полное их обезвреживание. Такие элементы в отрядах насчитывались впрочем единицами и по преимуществу притекали из городов.
В выборе мер борьбы с большими и малыми проступками требовалась особая осторожность: надо было применять такие, которые были бы приемлемы для самих отрядов, поддержаны ими и не убивали бы революционного духа. Среди этих мер, круг которых был очень ограничен, были и чрезвычайно жесткие, включительно до расстрела. Помнится случай, когда за изнасилование корейки партизан был расстрелян по приговору отрядного суда. К корейскому населению, как угнетенному меньшинству, мы вообще относились с особой чуткостью и вниманием, тем более, что корейская молодежь дружно вступала в партизанские отряды. С еще большей болью в сердце вспоминаем случай, когда сучанский отряд с барабанным боем провел по улице деревни Екатериновки несколько партизан, уличенных в краже у крестьянок белья и платьев. Их сопровождала группа партизан, а сами они должны были выкрикивать: «мы воры, мы опозорили имя борца революции!» и т. п. В некоторых отрядах, по решению общего собрания партизан, даже пороли розгами замеченных неоднократно в выходящих из ряда вон поступках — мародерстве, пьянстве и т. п. Конечно, все это было в единичных случаях в первую пору партизанской борьбы; когда в отрядах появилось достаточное количество сознательных и культурных революционных работников, дело воспитания бойцов в духе революционной дисциплины стало обязанностью каждого. Устраивались доклады, велись беседы, и позднее устраивались вечера с самой разнообразной программой на основе самотворчества бойцов. Так было например в сучанском отряде, где культурных сил было больше, чем в других отрядах.
Военно-оперативным отделом был выработан дисциплинарный устав для партизанских отрядов, которым регламентировались меры наказания за такие преступления, как бегство с поля борьбы или из тыловых частей, неисполнение боевых приказов, пьянство, воровство, провокация, мародерство и проч.
Следующий отдел Ревштаба — внутренних дел — был в сущности административным отделом исполкома. Он должен был организовывать волкомы, сельсоветы, регулировать общественную жизнь, ведать ремонтом дорог, проведением некоторых общественных повинностей и налогов среди населения, наблюдать за сохранением общественного порядка и спокойствия, вести борьбу с сулеварением (самогон) и пьянством и т. д. Конечно, здесь не приходится говорить о стройной системе работ, — все это выполнялось в меру тех условий, в которых находился Ольгинский уезд, а он представлял собой боевой лагерь. Организация власти на местах была трудно разрешимым вопросом. После падения советов их заменило номинально земство. При Колчаке в Приморьи был наместник, власть которого распространялась преимущественно на города, а отдаленная периферия была предоставлена сама себе, и фактически там не было никаких органов власти. В волостях существовали волуправления, в селах — старосты, но все это было только вывеской. Население в это время тоже не проявляло ни малейшего желания к созданию каких-либо органов самоуправления. И только в тех местах, куда до восстания имели доступ сатрапы наместника, были созданы скорее какие-то суррогаты власти, чем нормальные органы с конституционной физиономией. Когда началось вооруженное восстание, бывшие исполкомы советов в волостях вновь стали работать, но, конечно, говорить о планомерной, регулярной их работе не приходится. Работа носила эпизодический характер и больше шла по линии выполнения различных заданий штабов партизанских отрядов: по снабжению провизией отрядов, их расквартированию, перевозке, доставке одежды, обуви, фуража и т. п. В селах изредка происходили сходки, собрания. Насколько «власть» за этот период стала нежелательным бременем для крестьян, в особенности в местностях, куда совершались белогвардейские прогулки, легче всего понять на примере сельской власти. Колчаковцы не могли выносить названия «председатель села», сохранившегося от периода советской власти (сокращенное название председателя сельского совета), и немало получили розг и прикладов несчастные председатели и те, кто в присутствии колчаковцев употреблял этот термин. Однако крестьяне быстро приспособились к новому «режиму» и стали обязанности представителя местной власти исполнять поочередно — сначала по неделям, а потом этот срок дошел до одних суток: всякий боялся быть захваченным белыми в этом «почетном» звании. Белые обычно называли главу села старостой, а партизаны — председателем сельсовета; таким образом у каждого представителя сельвласти было две стороны медали. До чего панически боялись сельские старосты встречи с колчаковской властью, можно судить по следующим примерам. Когда ген. Смирнов после занятия Фроловки однажды вызвал к себе в штаб старосту селения Королевки (где Титов был учителем некоторое время), Прокоп Никула так испугался этого приглашения, что, отправляясь во Фроловку, слезно распрощался со всей семьей (сын его Макар первоначально был в партизанах) и забежал утром к Титову на квартиру попрощаться. «Еду на смерть. Я уж, Яков Степаныч, не вернусь домой. Либо расстреляют, либо запорют. Вас-то я не выдам… Прощайте…». Другого крестьянина — Бегункова тот же ген. Смирнов подверг пыткам и порке, угрожая посадить его надлежащим местом на раскаленную сковородку только за то, что он был ранее председателем советского волисполкома. Отсюда понятно, почему в этот период трудно было организовать на местах работающий регулярно аппарат: страх охватывал каждого, кому приходил черед брать хотя бы не надолго бразды правления в тот момент, когда могли появиться золотопогонные «ревнители правопорядка». Нам удалось закрепить в волостях и селениях более долгосрочные органы самоуправления, проведя для этого в некоторых волостях волостные съезды крестьян с избранием исполкомов. Различного рода общественные обязанности — гужевые, дорожные, фуражные и т. п. — по нарядам Ревштаба обычно выполнялись под руководством этих органов без какого бы то ни было принуждения и репрессий. Таким образом отделу внутренних дел удалось провести частичный ремонт гужевых проселочных дорог; поселки выполняли эту работу по нарядам. Одно время при Ревштабе были организованы артели рабочих, пришедших с Сучанских копей и не попавших в отряд за недостатком оружия; они временно выполняли различные хозяйственные работы. Проведена была даже частичная реквизиция семенных хлебов в деревне Бровничи (очень зажиточное село) для распределения среди бедняцких хозяйств дер. Гордеевки.
Борьба с самогоном, варкой которого занимались великолепно квалифицированные в этом отношении корейцы, здесь была затруднена тем обстоятельством, что корейцы жили отдельными фанзами по полям и лесам и трудно поддавались нашему надзору В этом деле огромнейшую услугу оказал Ревштабу корейский отдел, пользовавшийся большой популярностью среди корейского населения: он через партизан-корейцев помогал нам выявить сулеваров. С этим злом Ревштаб вел жестокую борьбу: обнаруженные заводы разрушались, сулю выливали на землю, налагали штрафы на виновных и даже производили конфискацию их имущества. Только такой резкий и выдержанный курс помог нам избавиться от пьянства как распространенного явления и безобразий, вытекающих из него.
Необходимо отметить еще один характерный штрих, также говорящий о некотором революционном завоевании в области быта, в вопросе о браке и рождении детей. Обычно «освящение» этих событий производилось в церкви попом. Теперь же, когда попам в Ольгинском уезде стало жить не по нутру, население в силу необходимости стало жить «бусурманами», как говорили крестьяне. Внутренний отдел завел при Ревштабе нечто вроде современного ЗАГСа. Вот в этот новомодный «ЗАГС» и приходили крестьяне для записи брака или развода или рождения детей и других житейских случаев. Здесь т. Титов учинял на бумаге тот или иной акт, снабжал обе стороны выписками, словом — любезно помогал им перевертывать вверх тормашками догнивающие старые формы и традиционные обычаи. Так мало-по-малу насаждался новый революционный быт, навстречу которому в первых рядах шла революционизировавшаяся в огне борьбы деревенская молодежь. Сила печати, сделанной нашим «гравером» Гаврилой Лесовым из подошвы старой резиновой калоши и распластывавшейся на даваемых «новобрачным» выписках, повергла в прах силу «таинства божия». Из того же «ЗАГСа» исходила инициатива давать новорожденным новые революционные имена. Первое такое имя — «Пролетария» — было дано родившейся в сопках дочери т. Ильюхова, затем один мальчик был назван «Совет». Так постепенно слагалось нечто новое из незаметных, стихийно возникающих явлений.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг."
Книги похожие на "Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Ильюхов - Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг."
Отзывы читателей о книге "Партизанское движение в Приморьи. 1918—1922 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.