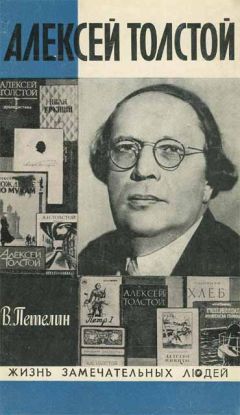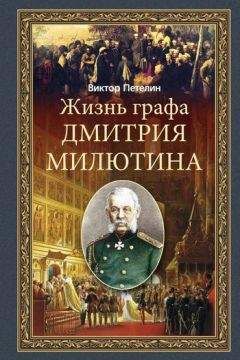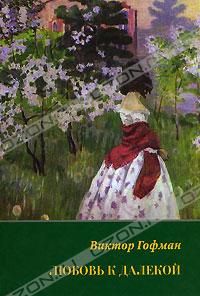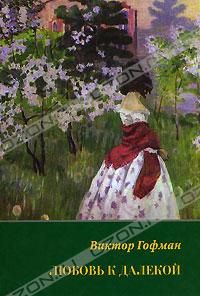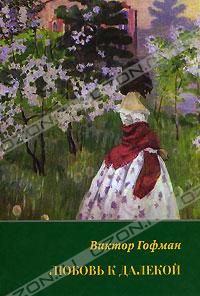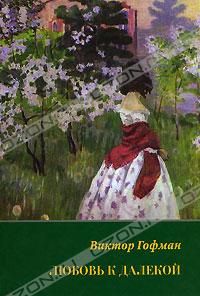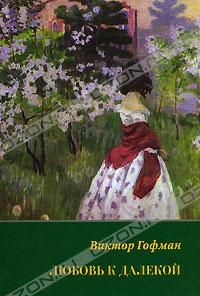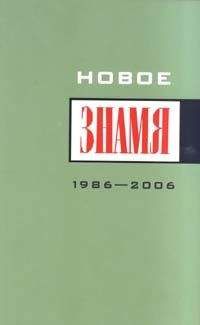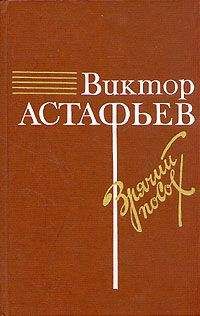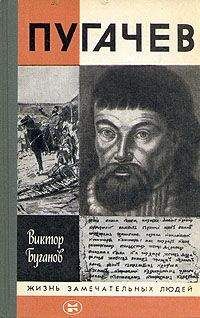Виктор Петелин - Мой XX век: счастье быть самим собой
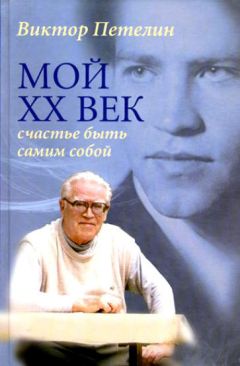
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Мой XX век: счастье быть самим собой"
Описание и краткое содержание "Мой XX век: счастье быть самим собой" читать бесплатно онлайн.
«Мой XX век: счастье быть самим собой» – книга уникальная как по содержанию, так и в жанровом отношении; охватывающая события с декабря 1956 года по нынешнее время. В декабре 1956 года Виктор Петелин выступил с докладом «О художественном методе», в котором заявил, что тормозом развития русской литературы является метод социалистического реализма, написал яркую статью «Два Григория Мелехова», в которой, как уверяли в своей книге Ф.А. Абрамов и В.В. Гура, «нарисован совершенно положительный характер Григория», с большим трудом издал книгу «Гуманизм Шолохова», в статьях о М.А. Булгакове, которые проходили с огромными осложнениями, показал русское национальное лицо выдающегося художника еще в конце 60-х годов, издал серию статей о русском национальном характере «Россия – любовь моя»... Автор рассказывает о своем везении: в издательство «Советский писатель» один за другим приходили молодые Василий Белов, Евгений Носов, Виктор Астафьев, которые несли в литературу свой неповторимый опыт; с большим трудом автору приходилось «пробивать» их книги, ставшие классикой нашей литературы. Автор рассказывает о событиях и людях, используя подлинные документы, широко привлекая письма Виктора Астафьева, Василия Белова, Евгения Носова, Константина Воробьева, Григория Коновалова, Анатолия Иванова, Петра Проскурина, Владимира Карпенко, Сергея Малашкина и других выдающихся писателей XX века, с которыми свела его счастливая Судьба. На страницах книги возникают образы современников эпохи, с их болями и страстями, с их творческими достижениями и неудачами, когда писатель, случалось, изменял сам себе... Какое счастье быть самим собой!
Книгу с интересом воспримут и специалисты-филологи, и широкие круги читателей, интересующихся историей русской словесности, историей редакций, судьбами писателей, преданных России и испытавших все треволнения, чинимые высшим партийным руководством, редакторами и цензурой.
Или вот еще одно «издевательское» письмишко:
«Дорогой Виктор Васильевич!
Буйный ты сиротинушка!
В непрестанных думах о дне и часе нашего свидания (делового), в поисках, чем бы задобрить тебя, я умыкнул один документик об истоках китайских шатаний. Перепечатал специально для тебя, дабы у тебя было чем заняться в томительном ожидании нашей встречи.
А вообще, милый, я на службе. Хожу в мундире и подчиняюсь всем законам и распоряжениям, согласно уставам. Срок отъезда 5 X, но я вылетаю за счет уплотнения служебного времени где-то вокруг 1 окт. Постараюсь до 1-го. Обнимаю. Ник. Родичев. 21. IX. 64».
Прилетел, конечно, гораздо позднее, после 10 октября. Я тут же уехал в отпуск в Сухуми, работать над завершением книги о Шолохове.
26 октября Николай Иванович написал мне письмо, 29-го я его получил:
«Дорогой Виктор Васильевич!
Рад твоему слову и тому, что ты акклиматизировался в местах, где люди живут преимущественно голыми.
Молюсь о твоем благополучии. Писать о нашей работе – дело бесполезное. Это означало бы измерять воду в быстротекущей реке. Причем не всегда чистую воду – современную, химизированную.
Кручусь. Оставил ты мне богатое наследие в виде папок нечитаных и неотвеченных дел. Разбираюсь. Затеял перепроверку папок, карточек. Везде прорехи, везде нужны часы и часы «досужих» сидений. Сижу. Каждый день с утра и до ночи. И вдвоем будем сидеть до Нового года, пока не отрегулируем свой (нрб).
Продолжаю чистку портфеля. Поступает в среднем по 1 рук. в день. Раньше было по три. Из твоего списка пока не сделано ничего, кроме мелочей.
Очень много отнимает времени партработа. Готовлю экономич. совещание.
Нужны (ряд) контрольных читок, но тебя нет, некому этим делом заниматься. Одним словом, жду. Для полной нагрузки, для подпряжения в наш общий возок.
Ничего не пишешь о рукописи. А зря. Если у тебя успехи только по акклиматизации, то это решение проблемы лишь по форме. Иду по жизни с полной нагрузкой. Но возраста пока не чувствую. Если что и чувствую всерьез, это то, что напрасно засел в наш уважаемый кабинет. Лучше было акклиматизироваться на Сахалине. Там тоже климат подходящий.
Не хватит ли тебя развлекать? Боюсь впасть в старческую сентиментальность».
Так вот мы и переписывались, исполняя высокие обязанности руководителей главнейшего отдела издательства «Советский писатель».
И при всем при этом я вспоминаю об этом времени как о счастливой поре. Я узнал кухню издательства, узнал, что я могу, а что не могу... Дать толстую рукопись из «самотека» на рецензию нуждающемуся писателю, договорную – члену правления издательства; взять на чтение, а потом и на редактирование рукопись нового для издательства автора; а вот «старые» авторы все уже распределены по редакторам, которые уже ждут от «своего» писателя новую вещь, знают, кому ее послать на рецензию, кто ее поддержит на обсуждении плана. Если захочешь ты что-либо изменить, то скандал обеспечен, нет, не в открытую, а тихо зашелестит слух-слушок по коридорам издательства, дойдет, естественно, до Лесючевского и Карповой, начнутся разбирательства. Да, кстати, «старые» писатели меня меньше всего интересовали, среди них нового Шолохова не найдешь.
И вот однажды, когда Николай Иванович «ползал» по карте Северного Сахалина, а я исполнял обязанности заведующего редакцией русской прозы, в кабинет зашел молодой человек, небольшого роста, стеснительно поздоровался и протянул мне рукопись:
– Мне сказали в редакции, что рукопись я должен передать вам. Моя фамилия Белов, Василий Иванович Белов. Тут небольшая повесть и несколько рассказов.
К тому времени я прочитал многих современных прозаиков, перелистывал журналы в поисках новых имен, просматривал новинки других издательств. Нет, Белова я не знал. Но на вид он еще так молод, чуть за тридцать. Я стал расспрашивать Василия Ивановича. Родился в деревне, мать и до сих пор там живет, учился в Литинституте, работал в райкоме ВЛКСМ, печатался, в «Советской России» вышла небольшая книжка. Ну а почему сразу в «Советский писатель»? Есть же и «Молодая гвардия», тем более в прошлом комсомольский вожак. Об этом и спросил.
– Мои рассказы и повесть вряд ли подойдут издательству «Молодая гвардия», – словно бы услышав мои внутренние сомнения, сказал Белов. – Я больше пишу о современной деревне... Если вы интересуетесь положением в современной деревне, то, может, и почитаете...
Что-то подкупало в этой простоте и доверительности, которая исходила от Василия Ивановича Белова, немногословного, стеснительного, чуть-чуть неуверенного в себе, ведь он пришел в «чужое» издательство, тут и «своих» полно, а всех даже и такое мощное издательство прокормить не в состоянии, конкурс рукописей был слишком велик, даже не столько рукописей, сколько имен, порой и дутых. Но и дутые были «своими». Не выбросишь, столько лет кормили.
А наша задача с Н.И. Родичевым как раз и заключалась в том, чтобы привлечь новые, свежие силы в издательство, а значит, и в русскую литературу вообще. Белова я быстро прочитал, за день-два. Понял, что это настоящая русская проза, действуют истинно русские люди, говорят на подлинном русском языке. Но ведь эту рукопись надо провести через авторитетное рецензирование. Кому дать, чтобы поддержать это молодое дарование и поставить в план издания? Это мучительный вопрос. От этого очень многое зависело в судьбе рукописи, а значит, и в судьбе ее автора. А тут совсем еще молодой, никто о нем и не слышал. Лаптев Юрий Григорьевич, мелькнуло у меня, и проректор Литинститута, и лауреат Сталинской премии, сам пишет о деревне. Кому ж еще, как не ему. Вскоре Юрий Лаптев принес рецензию, я лихорадочно смотрю на последние абзацы рецензии: печатать в таком виде не следует. М-да-а. Такого я не ожидал. А Юрий Григорьевич начинает мне объяснять, что если напечатаем такое произведение, то завтра же нас всех разгонят, обвинят в клевете на колхозное крестьянство, как уже не раз бывало в нашей истории литературы, а вы, Виктор Васильевич, еще молодой и этого не знаете, а я все это сам пережил.
Что я мог возразить этому старому и, в общем, очень милому человеку? Что я сам историк литературы, знаю историю «Тихого Дона», «Белой гвардии», «Русского леса»? Нет, этим делу не поможешь. Отрицательная рецензия налицо, нужно было срочно что-то предпринимать, чтобы спасать положение. Я ведь рукопись прочитал, знаю ее достоинства и недостатки... Позвонил Виктору Чалмаеву, который иной раз выручал нас, охотно брал рукописи на рецензию. Я рассказал Виктору Андреевичу о своих впечатлениях о прочитанном, «забыв» сказать о рецензии Ю.Г. Лаптева. Но смысл нашего разговора – поддержать молодое дарование. Никогда я не давал рекомендации рецензентам, с уважением относился к каждому мнению, а тут я выразил своему другу, однокашнику по университету, открытую просьбу – поддержать. Но и тут ничего хорошего не получилось – Виктор Чалмаев написал еще более хлесткую, жесткую рецензию – печатать нельзя. Что было делать? Одна из них принадлежит члену правления издательства... И я написал редакторское заключение – таков был порядок, – в котором, обобщая рассмотрение рукописи в редакции, высказал вместе со своими положительными оценками рекомендации рецензентов по доработке рукописи. Рукопись перспективная, автор молодой и талантливый, необходимо заключить договор и отослать рукопись на доработку.
Так мы с Н.И. Родичевым и сделали, а после доработки, думали мы, дадим другим рецензентам. В итоге так и получилось. А между тем «Привычное дело» было опубликовано в журнале «Север». Белов прислал мне экземпляр журнала, я срочно написал рецензию, отдал ее в «Огонек», и Николай Сергованцев тут же поставил ее в номер, а Софронов подписал.
А поддержка «Огонька» в то время много значила в судьбе писателя. «О светлом и горьком» – так называлась рецензия, с которой, в сущности, началась известность Василия Белова, но ни один из критиков, писавших впоследствии о Белове, не сослался на эту первую рецензию о «Привычном деле». (Смотрите, господа критики и историки литературы, июльский «Огонек» (1966. № 29).)
О СВЕТЛОМ И ГОРЬКОМ
(В. Белов. Привычное дело. Повесть. Север. 1966. № 1)
Имя молодого талантливого прозаика Василия Белова сейчас довольно широко известно, а ведь всего лишь два-три года назад оно еле приметной точкой мелькало на литературном горизонте. Повесть «Привычное дело» – новый шаг в становлении многообещающего литератора.
В центре повести «Привычное дело» – крестьяне, живущие на не слишком щедрой к человеку вологодской земле.
Глубоко и поэтично, с тонким пониманием побуждений духовной жизни воссозданы образы Ивана Африкановича и Катерины – главных героев повести. С улыбкой и каким-то непостижимым стоицизмом переносят Катерина и Иван Африканович все трудности и беды, выпавшие на их долю. Автор описал будничную жизнь одной семьи: девять человек детей, всех их надо накормить, обуть, одеть. Родителям приходится тяжело. А они не теряют бодрости духа, стойко переносят все лишения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мой XX век: счастье быть самим собой"
Книги похожие на "Мой XX век: счастье быть самим собой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Петелин - Мой XX век: счастье быть самим собой"
Отзывы читателей о книге "Мой XX век: счастье быть самим собой", комментарии и мнения людей о произведении.