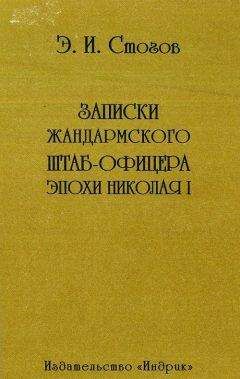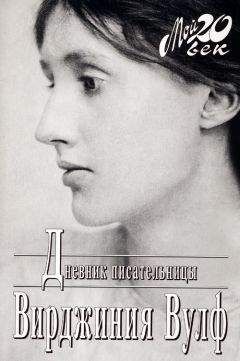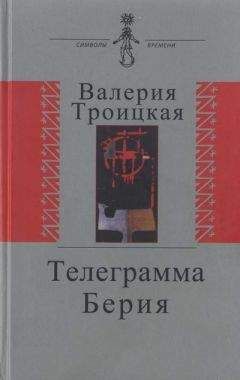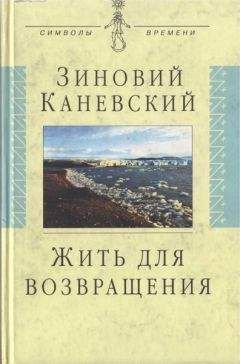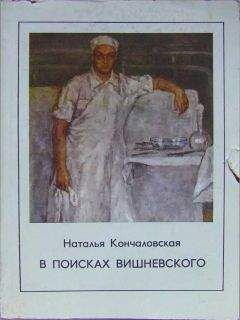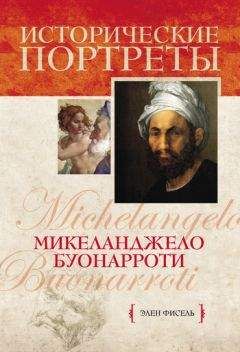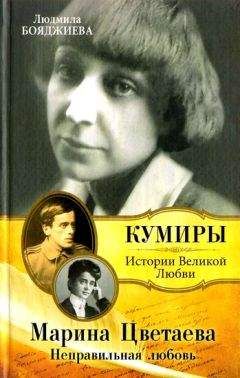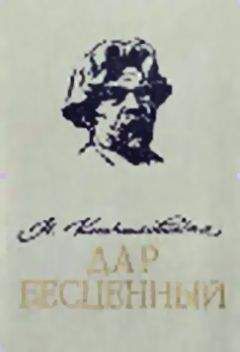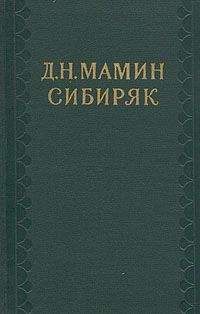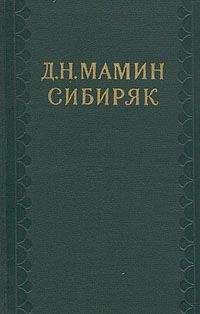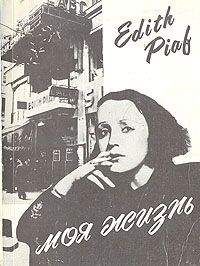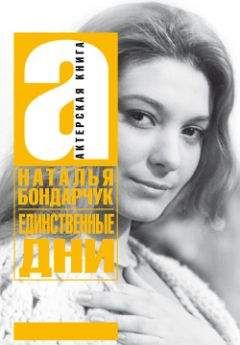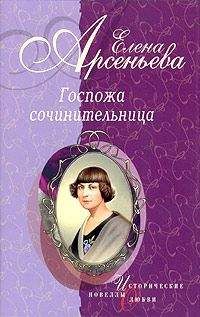Наталья Кончаловская - Волшебство и трудолюбие

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Волшебство и трудолюбие"
Описание и краткое содержание "Волшебство и трудолюбие" читать бесплатно онлайн.
В книгу известной писательницы и переводчика Натальи Петровны Кончаловской вошли мемуарные повести и рассказы. В своих произведениях она сумела сберечь и сохранить не только образ эпохи, но и благородство, культуру и духовную красоту своих современников, людей, с которыми ей довелось встречаться и дружить: Эдит Пиаф, Марина Цветаева, хирург Вишневский, скульптор Коненков… За простыми и обыденными событиями повседневной жизни в ее рассказах много мудрости, глубокого понимания жизни, истинных ценностей человеческого бытия… Внучка Василия Сурикова и дочь Петра Кончаловского, она смогла найти свой неповторимый путь в жизни, литературе, поэзии и искусстве.
Портрет работы Серова «Девочка с персиками» написан с дочери Саввы Ивановича — Верушки. Она и ее сестра Шура были подругами моей мамы и тети — Оли и Лены Суриковых. А моими друзьями были дети Веры Саввишны — Юша, Лиза и рано умерший Сереженька… Вот так перекрещивались наши пути и перекликались голоса детства, юности и уже зрелости…
Абрамцево было связано для меня с Садовым кольцом теснейшей связью. Вспоминаю 1919–1920 годы. Трамваи еще не ходили по Садовому кольцу, и мы с отцом Петром Петровичем пешком проделывали весь путь по кольцу до Ярославского вокзала, чтобы отвезти в Абрамцево, где мы проводили лето, пайковые продукты, полученные по карточкам, на две недели сразу. Мы тащили на себе рюкзаки с крупой, сахаром, ржаной мукой и прочими продуктами. Рюкзаки были тяжелые, папа нес большую часть, я — меньшую.
От Большой Садовой до вокзала мы шагали по кольцу через Триумфальную, Самотеки, к Сухаревой, а там сворачивали на Домниковскую, скашивая таким образом путь к вокзальной площади.
Помню Сухаревку тех лет, когда вокруг трехъярусной башни шумела, бурлила, кипела барахолка, на которой продавалось, покупалось и обменивалось все, что угодно, начиная с пачки махорки и замусоленных кусочков сахара, кончая копиями с картин Рембрандта. Одежда, граммофоны, старинная мебель, мыло, сало, сапоги покупались и обменивались в сутолоке, крике, брани. Кто пел, кто гадал на картах, кто предлагал угол в комнате; бывало так, что какая-нибудь старая барыня обменивала пианино на мешочек пшеничной муки или кусок украинского сала. Словом, жизнь кипела в круговерти. И помню, где-то возле Сухаревки, в переулке, лежал остов лошади, совершенно оскобленный людьми и обглоданный собаками… Конина вообще тогда была лакомством, и если удавалось купить на рынке, то в семье готовилось блюдо из нее только для мужчин.
Я вспоминаю совсем недавний рассказ ныне покойного врача-гомеопата Сергея Алексеевича Мухина. Он в те годы учился вместе с моим двоюродным братом Ваней в университете на медицинском факультете. Был конец года, их группа заканчивала курс, и после экзаменов решили отметить это событие в доме у Вани Кончаловского. Его сестры Наташа, Леля и Зина устроили ужин, купив конины, нажарили котлет, раздобыли горькой, и, когда стол был накрыт, три девицы открыли дверь в столовую и объявили:
— Господа! Лошади поданы!
Ну конечно, хохот был неистовый, но и восторг тоже, поскольку конина была деликатесом…
Но вернемся к Абрамцеву. Сейчас, в наше время, это музей-усадьба. Все это охраняется, тщательно восстанавливается. По старинным комнатам ходят экскурсии, посетители разглядывают реставрированные «экспонаты», креслица-жакоб, диваны и столы красного дерева, портреты и пейзажи знаменитых передвижников на стенах, изразцовые печи с лежанками по мотивам Врубеля, полированные паркеты, интересные экземпляры шкафиков, столов и стульев с резьбой абрамцевской столярной мастерской, по рисункам Елены Дмитриевны Поленовой. И церковка новгородского стиля стоит на прежнем месте. Та самая белая чудесная церковь, построенная в 1882 году по проекту Виктора Васнецова, расписана внутри Васнецовым, Поленовым, Невревым, Репиным, а в 1892 году была поставлена в церкви печь по проекту Врубеля. К церкви примыкает небольшое семейное кладбище, где похоронен Савва Иванович, умерший в 1918 году, там же могила жены его Елизаветы Григорьевны и всех их детей и внуков. Все росписи в церкви охраняются и реставрируются. Стоит и флигель-баня, и избушка на курьих ножках, возле которой мы играли детьми, и мастерская Саввы Ивановича. Все это сейчас — музей-заповедник, а я помню абрамцевский дом, когда он был жилым, полным повседневных забот, полным очарования и романтики, несмотря на все трудности революционного преобразования.
Усадьба Абрамцево была национализирована в 1918 году и превращена в музей. Еще жива была Александра Саввишна — тетя Шура, как мы все ее звали. Она-то и стала первой заведующей Абрамцевским музеем.
Но жизнь в доме пока еще текла по-прежнему. Многие художники по-прежнему приезжали туда. Наша семья в те годы занимала летом мастерскую Саввы Ивановича. Там жили отец, мама и брат. А я жила в большом доме в комнате, где когда-то при Аксакове жил сам… Гоголь! Вот тут он спал, думал, писал…
А на горке между домом и мастерской и поныне стоит полукруглый керамический диван, задуманный и выполненный Врубелем. Я помню, что на этом диване в 1920 году отец начал писать портрет актера МХАТа Александра Леонидовича Вишневского. Впоследствии он закончил его уже у себя в мастерской…
Там же, наверху, рядом со мной были комнаты тети Шуры, Лизы и Юши, старшего ее брата. Лиза была немного моложе меня, и я до сих пор помню ее тоненькую, но крепкую фигурку с покатыми плечами. Русые волосы ее были всегда гладко причесаны. Светлое, доброе лицо ее с небольшими карими умными глазами было приветливо-сдержанным. Ходила она, чуть держа носки ног внутрь, она была всегда скромно одета, но необычайно аккуратна и чистоплотна. Я хорошо помню ее грудной, приглушенный голос и веселый искренний смех; несмотря на сдержанность, она была смешлива. Лицом она была не в Мамонтовых, а в отца своего — Александра Дмитриевича Самарина, до революции занимавшего высокое положение — прокурора Святейшего Синода и предводителя дворянства. Я помню его — строгого, солидного господина с бородкой, с чуть припухшими веками. Он мне чем-то напоминал толстовского Каренина. По тому времени Самарину полагалось быть арестованным и находиться в Бутырской тюрьме, но ему оказано было снисхождение, и я помню, что на субботу и воскресенье его отпускали «на выходные», и он приезжал в Абрамцево, и тут я его видела уже совсем в другом облике — в стареньких брюках и обшарпанном пиджаке, с седой бородкой; сгорбившийся бывший вельможа был чем-то очень приятным и простым для всех нас человеком. Брат Лизы, Юша, был ее противоположностью — высокий, толстый, крепкий, с серыми глазами и очень решительной и самоуверенной физиономией, хоть, в сущности-то, он был добрым малым…
Мы с Лизой дружили, и нам-то и довелось вместе вести хозяйство. Обе мы умели готовить, топить русскую печь в абрамцевской кухне, обе мы сами выпекали черный хлеб из пайковой муки. На всю жизнь я запомнила этот запах ржаного теста, которое подходило в деревянных кадушках. Вымешенное на закваске нашими сильными руками, за ночь оно поднималось пухлой серой подушкой, воздушной и ароматной, чтоб разделанным лечь в квадратные железные формы и, поднявшись в них еще раз, съехать с ухвата на раскаленный кирпичный под. Прежде чем посадить хлеб, надо было быстро разгрести кочергой уголь от прогоревших поленьев к стенам печи, чисто вымести пышущий жаром под, выждать, чтоб не было угара — чтоб не осталось ни единого синего огонька, ни струйки дыма. Лишь серый пепел, под которым ярко тлели красным переливом угли. Но вот хлеб в печи. Заслонка еще не закрыта, хлеб на глазах начинает, словно живой, подниматься в формах. Вот и уголь перегорел, из печи идет душистый жар, заслонка закрывает полукруглую арку печи. А мы с Лизой моем кадки, завязываем тряпицами горшочки с закваской, оставленной на будущий хлеб…
Яркий свет утреннего солнца льется в окна кухни. Столы вымыты, выскоблены, пол подметен и протерт. Теперь надо выждать, пока хлеб пропечется. Это полтора-два часа. Будем вынимать его, вытряхивать из форм, укладывать на чистые полотенца, расстеленные на столах, и прикрывать старыми стегаными одеялами. У Лизы еще оставалась от прежнего хозяйства корова. В проходе между домом и кухней был ей устроен маленький хлев. По утрам Юша отгонял ее в деревенское стадо. Лиза сама ухаживала за ней, доила, цедила молоко, отстаивала сливки на сметану, готовила творог. Надо было видеть ее в белой косыночке и фартуке, сидящей на скамеечке за доением своей Буренки! Струйки молока со звоном ударялись о дно ведерка. Лиза и меня учила доить корову, недовольно косившуюся на меня…
Как же все это ловко, быстро, с любовью делали мы, две девчонки, бывшие гимназистки, не готовившиеся стать ни стряпухами, ни коровницами, ни прачками. Девчонки, которые по вечерам читали «Малыша» Альфонса Додэ и «Собор Парижской Богоматери» Гюго по-французски или играли в четыре руки Третью симфонию Моцарта, переложенную для фортепьяно…
Видимо, и в этом была культура подлинной русской интеллигенции, переходившая из поколения в поколение. Той интеллигенции, которая из года в год, из века в век избегала влияния мелкобуржуазной среды, подражающей уровню бытия западноевропейской буржуазии…
А черный хлеб? Хорошо испеченный черный хлеб — это уже тоже искусство. И я прихожу к твердому убеждению, что в любой профессии человек может добиться совершенства, если он вкладывает в дело свою душу. В любом деле, казалось бы самом незаметном, человек может стать артистом! И от этого чувства высокого мастерства жизнь становится праздником.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Волшебство и трудолюбие"
Книги похожие на "Волшебство и трудолюбие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Наталья Кончаловская - Волшебство и трудолюбие"
Отзывы читателей о книге "Волшебство и трудолюбие", комментарии и мнения людей о произведении.