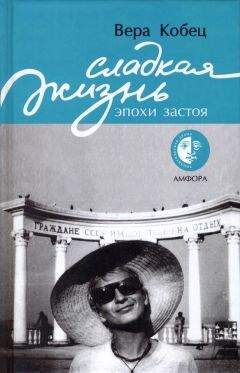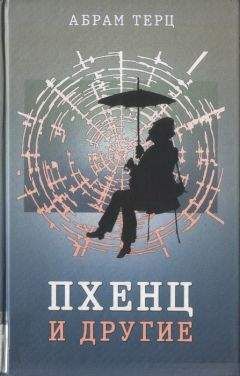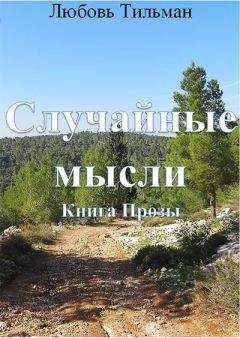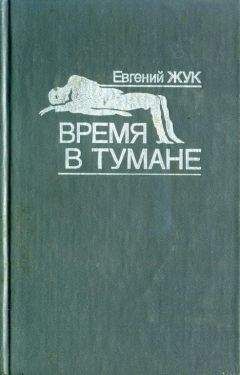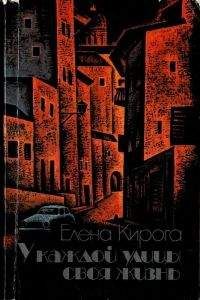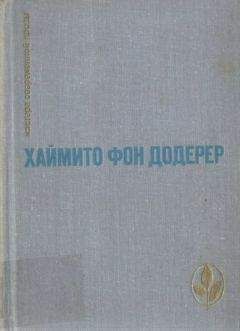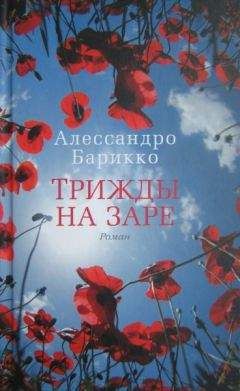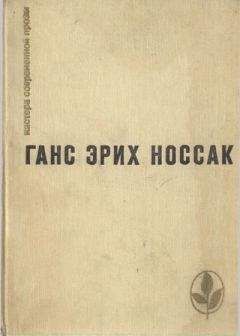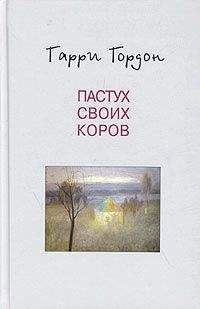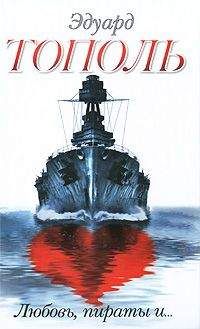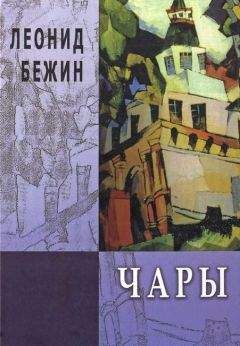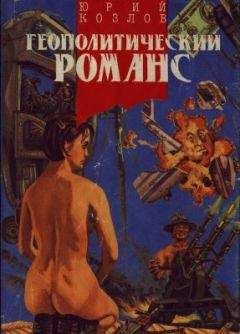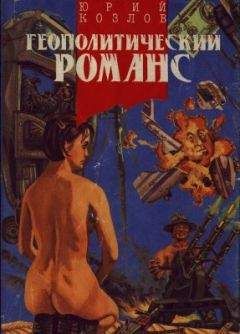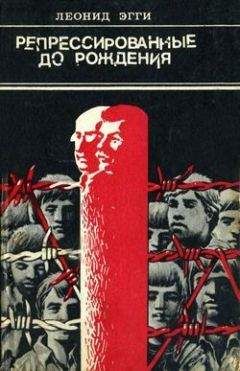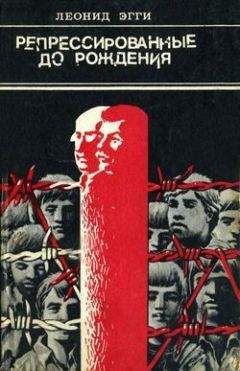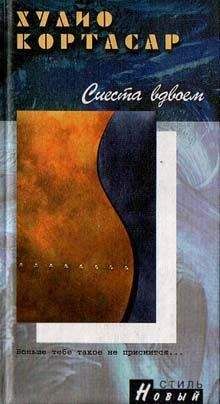Леонид Пантелеев - Верую…
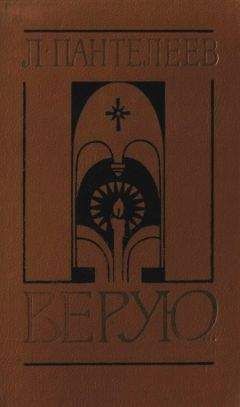
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Верую…"
Описание и краткое содержание "Верую…" читать бесплатно онлайн.
Вошедшие в книгу произведения Л. Пантелеева (1908–1987), классика советской литературы для детей, не предназначались автором для прижизненной публикации: их безоглядная исповедальность и правдивость слишком резко контрастировали с общественными нравами застойной эпохи. Кроме автобиографических записок «Верую…» в книгу включена также документальная повесть «Дочь Юпитера» — о дочери последнего петроградского военного диктатора генерала С. Хабалова, в неожиданном ракурсе освещающая интереснейшие страницы нашей истории.
…Возвращаюсь к далеким временам семнадцатого года. С пропуском в ридикюле я рано утром приехала в Петроград. У Царскосельского вокзала машинально села в трамвай и доехала до Сергиевской. На всякий случай еще раз поднялась во второй этаж того дома, где жили мои. На дверях все так же неуютно и даже страшно краснели две сургучные лепешки…
Оттуда я пешком пошла по набережной. От волнения подкашивались ноги, свет божий был не мил.
В крепости я почему-то никогда раньше не бывала. С трудом разыскав комендатуру, долго ждала вызова к коменданту. Вместе со мной в приемной сидело еще несколько дам, — одну я узнала, это была жена генерала Ренненкампфа. Наконец меня позвали. На всю жизнь мне запомнилась эта встреча. За большим письменным столом сидел средних лет офицер, штабс-капитан. Не отрываясь от бумаг, он спрашивает:
— Фамилия ваша?
Отвечаю, что я дочь генерала Хабалова. И вдруг комендант отрывается от своих бумаг, поднимается и — почтительно кланяется мне. От волнения я ничего не могу сказать, что называется — язык проглотила.
Позже я узнала, что фамилия его была Кривцов, до революции он состоял адъютантом у великого князя Михаила Николаевича, при этом принадлежал к какой-то оппозиционной партии, чуть ли не эсеровской. По отношению к другим посетителям этот Кривцов вел себя в высшей степени враждебно, я часто слышала жалобы на его „грубость“. Чем же объяснить его учтивое и даже почтительное отношение ко мне? У меня есть веские основания предположить, что этот Кривцов когда-то учился у моего отца.
Кривцов, я помню, предупредил меня, что свидание будет продолжительностью пять минут, что подходить близко к заключенному нельзя, что говорить можно только о домашних, семейных делах и что разговор наш будет протоколироваться.
Какой-то офицер провел меня в Трубецкой (как я потом узнала) бастион. Там опять ожидание в обществе каких-то незнакомых дам и девушек. Был, правда, там и один мальчик лет пятнадцати, лицеист. Свидание было коротким, а ожидание бесконечно долгим. Вызывают одну, потом она возвращается, и, прежде чем вызовут следующую, проходит много времени. Может быть, это так казалось нам, ожидающим, а может быть, требовалось время, чтобы отвести в камеру одного арестованного и привести другого.
Наконец позвали меня.
Комната свиданий была большая, высокая и все-таки бесконечно мрачная. Направо, у окна, за маленьким столом сидел офицер-протоколист.
Вводили арестованного двое часовых при оружии.
Я стояла и с трепетом прислушивалась к шагам по каменному полу.
Когда его ввели первый раз, он был в сюртуке, без обычных аксельбантов и, кажется, без погон. И главное — без очков. А он пользовался очками с семнадцати лет.
Вид часовых с винтовками, его осунувшееся лицо, седина, которой стало вдруг гораздо больше, чем было, — все это сжало мне горло.
Мы стояли друг против друга на расстоянии 6–8 шагов посередине комнаты. Он растерянно озирается и не видит меня. Я хочу заговорить, а голоса нет, хочу откашляться — ни звука.
Тут отец с болью в голосе спрашивает:
— Кто тут? Зачем же меня обманули?
В эту минуту что-то случилось — я обрела голос:
— Папа, это я, Тата! Вот я.
Потом сказала, что принесла ему котлеты (другого я не придумала, да и трудно было достать что-нибудь). Он спросил о детях, о моем здоровье — и срок кончился.
…Вы писали как-то, что в моей внешности „угадываются“ черты моей матери. Да, в молодости я была похожа на мать, а теперь отцовское преобладает. Характером же я вся, до кончиков ногтей, в отца. Вообще же, когда я была подростком, домашние меня жалели, говорили, что я „дурнушка“. В 1918 году я решила, что „отжила“, что солнце для меня навсегда закатилось… И именно тут на моем пути возник Ларион. Простите, что я снова возвращаюсь к нему, но в моей жизни это был последний, очень яркий луч закатного солнца».
76. МАЧЕХАИз письма Н. С. от 20.II.61 г.:
«…Вы спрашиваете: где я получала пропуск? Тут у меня полный провал памяти. Литейный, левая сторона, если идти от Невского, а потом почему-то вспоминается Шпалерная — возможно, было и там и тут. Большое здание казенного типа, длинные коридоры в табачном дыму, блуждания из комнату в комнату, — от стола к столу, ожидание, стоя, бесконечно долго, пока наконец вынесут пропуск. Каков его текст? Простите, не помню. Да и вряд ли видела его: ведь у меня туман и в голове и в глазах, я ничего не соображаю, я все делаю почти машинально, т. к. боюсь, страшно боюсь, что уже не застану его в живых.
…Ужасно даже припомнить это состояние: губы шевелятся, а звука нет. Да и на других свиданиях я почти не могла говорить. Вы, я думаю, поймете, что необычная суровость обстановки и мое душевное состояние лишали меня последних сил. А ведь при этом говорить надо было на расстоянии в три-четыре метра.
Вообще-то я не часто бывала у него в крепости. И очень сердечных, откровенных разговоров у нас не получалось. Между нами, как всегда и повсюду, стояла мачеха.
В некоторых письмах он просил меня не обижаться, если свидания будут редки: ему необходимо чаще видеть жену и быть в курсе ее хлопот о его освобождении. Я соглашалась с этим, молчала, но в глубине души только и мечтала о том, что, куда бы его ни отправили, я поеду за ним.
Но и этого мне не дано было совершить. Вообще-то надо быть справедливой: мачеха действовала весьма энергично. Благодаря ее хлопотам и свидетельству тюремного врача, было разрешено передать ему шерстяное одеяло и подушку. Первое время разрешали приносить пищу. Из книг дали только Евангелие, но и его долгое время он читать без очков не мог. Хотя несколько писем — очень большими буквами-каракулями — он мне тогда написал.
Писала и я ему».
77. ЕЩЕ О ХАБАЛОВЫХИз письма Н. С. от 6.IV.61 г.:
«…Если Вас это интересует, сообщу краткие биографические данные. Звали его Сергей Семенович. Родился в 1859 году в маленьком имении Валдайского уезда Новгородской губернии, которое было куплено в 1858 г. без крепостных через банк. Дед недолгое время был мировым судьей — очевидно, и земля была куплена для ценза. 300 десятин, заложенных двумя помещиками. Одно время дед держал управляющего-немца, который довел хозяйство до развала. Большей частью дед жил в Петербурге, а молодую жену держал в деревне, только изредка навещая ее. В живых было пять сыновей и одна дочь, моя тетка, которой и дали в приданое все недвижимое имущество с согласия всех братьев.
Мой отец очень любил места, где он вырос. Дом был деревянный, обшитый тесом, окрашен серовато-голубой краской, с мезонином, куда вела крутая внутренняя лестница (ступеньки которой я „пересчитала“ как-то лет пяти). Наверху было две комнаты с деревянными балконами во двор и в сад. У балкона во дворе висел довольно большой колокол, в который звонили в плохую погоду для заблудившихся путников. Внизу в доме было 9 комнат: девичья, детская, спальня родителей, кабинет хозяина, прихожая (окна во двор), классная, зала, гостиная, столовая (окнами в сад)… Перед домом были разбиты клумбы с цветами, на одной из них и до моего зрелого возраста сохранился бордюр из ландышей и крупных колокольчиков, перенесенных моим отцом из леса, когда он был еще мальчиком…
Опуская убранство комнат (если интересно — напишу потом), возвращаюсь к биографии.
Окончив военную гимназию (как назывались тогда кадетские корпуса) и артиллерийское училище, отец вышел в казачью часть (были его фото в черкеске), участвовал в русско-турецкой войне. После войны служба в горных местах: Ахалцых и Ханкейды, куда вела только конная тропа… Затем Академия Генерального штаба, окончание ее с отличием; командировка во Францию, где он получает орден Почетного легиона. По возвращении — командир роты Егерского полка — для ценза. Потом лекторская деятельность в обоих артиллерийских военных училищах, в Пажеском корпусе (где, по признанию Игнатьева, были лучшие преподавательские силы), Михайловская артиллерийская академия и Академия Генерального штаба. В начале 900-х годов — инспектор Николаевского кавалерийского училища, откуда — в Выборг комбатом, затем Москва — начальник военного училища, опять Петербург — начальник Павловского военного училища, наказной атаман Уральского войска и снова Петербург… Много орденов русских и иностранных — эти последние в связи с приездом всяких „высоких гостей“. Последний орден — Белого орла с лентой через плечо. Помните вопрос К. Р.: „А дочь довольна?“
Это по случаю получения именно этого ордена.
Все братья отца тоже были военные. Ни у кого из них детей не было: женились поздно, погибли или в первую войну, или сразу после нее. Один из дядей был женат на дочери Демидова Сан Донато (незаконной, от какой-то итальянской певицы). Она была очень красива: жгучая итальянка, но взбалмошная.
Никого уже нет.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Верую…"
Книги похожие на "Верую…" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Леонид Пантелеев - Верую…"
Отзывы читателей о книге "Верую…", комментарии и мнения людей о произведении.