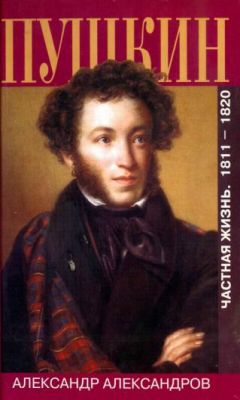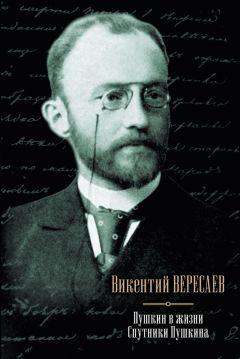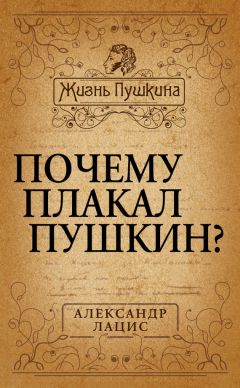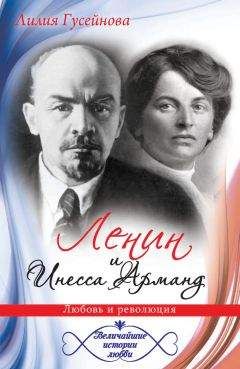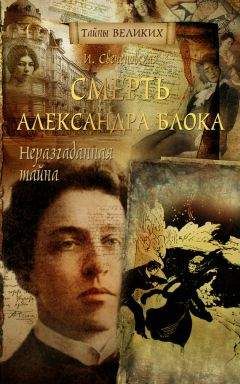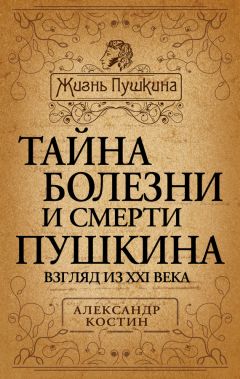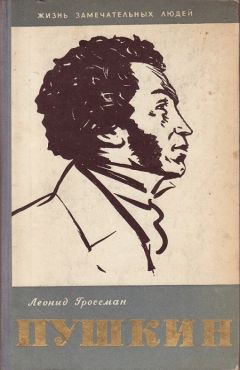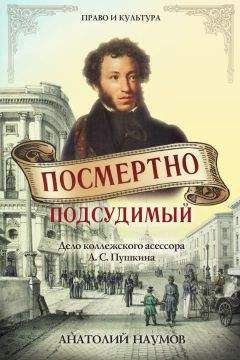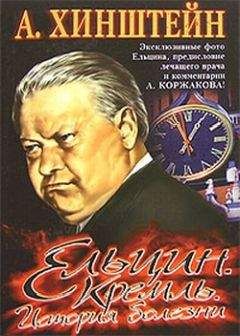Александр Костин - Тайна болезни и смерти Пушкина
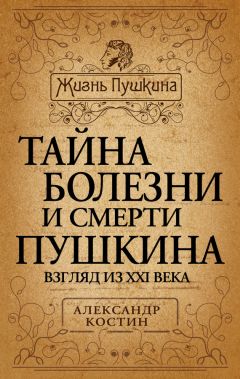
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Тайна болезни и смерти Пушкина"
Описание и краткое содержание "Тайна болезни и смерти Пушкина" читать бесплатно онлайн.
Новая работа историка и политолога Александра Костина – попытка развеять мифы, сложившиеся вокруг болезни, дуэли и смерти Пушкина.
Какой недуг преследовал русского гения в течение, без малого, двадцати лет, и верно ли угадал симптомы болезни Паркинсона неопушкинист Александр Лацис? Действительно ли, что поэт написал сам на себя пасквиль, тот самый «диплом рогоносца», и, главное, какую цель мог при этом преследовать? Какие тайны семейной жизни четы Пушкиных хранили и продолжают хранить их потомки? Почему в деле военно-следственного суда фактически нет даже упоминания о том, из какого оружия был смертельно ранен Пушкин и не фигурирует описание пули, якобы выпущенной из пистолета Дантеса?.. На многие вопросы, связанные с тайнами жизни и смерти А.С. Пушкина, читатель найдёт сенсационные ответы в этой книге.
Сожалея, что прошло уже «то незабвенное время нашей литературы, когда играла лира Пушкина, когда имя его вместе со сладостными песнями носилось по России из конца в конец и было у всякого на языке», П.И. Юркевич старался растолковать читателям, почему это могло произойти: «Но отчего муза поэта умолкла? Ужели поэтические дарования стареют так рано, отживают свой век так преждевременно? Ужели все прекрасное так непрочно на земле? Неужто талант поэта облетел так скоро, как листья весеннего цветка, вянет столько (sic) быстро, как вянут розы на щеках красавиц?». На эти вопросы Юркевич дает утвердительный ответ: «Видно, что так, потому что поэт умолк и сделался журналистом»; «поэт переменил золотую лиру свою на скрипучее, неумолкающее, труженическое перо журналиста; он отдал даром свою свободу… Мечты и вдохновенья свои он погасил срочными статьями и журнального полемикою; князь мысли стал рабом толпы; орел спустился с облаков для того, чтобы крылом своим ворочать тяжелые колеса мельницы». Причины же, вызвавшие эти печальные перемены, по мнению П. И. Юркевича, весьма неблаговидного свойства. Пушкин стал журналистом якобы для того только, «чтобы иметь удовольствие высказать несколько горьких укоров своим врагам, то есть людям, которые были не согласны с ним в литературных мнениях, которые требовали от дремлющего его таланта новых совершеннейших созданий, угрожая в противном случае свести с престола его значительность». В своих статьях П.И. Юркевич «снизошел» до того, что Пушкина надо бы пожалеть.
«Может быть, поэт опочил на лаврах слишком рано, и, вместо того чтобы отвечать нам новым поэтическим произведением, он выдает толстые тяжелые книжки сухого и скучного журнала, наполненного чужими статьями. Вместо звонких, сильных, прекрасных стихов его лучшего времени читаем его вялую, ленивую прозу, его горькие и печальные жалобы. Пожалейте поэта!»[72]
Да что там Ф.В. Булгарин, или записной критик «Пушкинского застоя» П. Медведковский-Юркевич, упреки Пушкину вследствие якобы приметного оскудения его творческого дара стали в это время обычными и жестокими, в том числе и со стороны довольно близких его друзей (Карамзины). Куда уж дальше, если сам В.Г. Белинский в одной из своих статей, опубликованной в «Литературных листках», говоря о тяжелом кризисе, в котором поэт, по его мнению, находился в середине 30-х годов, провозглашал: ««Борис Годунов» был последним великим его подвигом; в третьей части полного собрания его стихотворений замерли звуки его гармонической лиры. Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время. Может быть, его уже нет, а может быть, он и воскреснет, этот вопрос, это гамлетовское «быть или не быть» скрывается во мгле будущего. По крайней мере, судя по его сказкам, по его поэме «Анжело» и по другим произведениям, обретающимся в «Новоселье» и «Библиотеке для чтения», мы должны оплакивать горькую, невозвратимую потерю». И словно желая нейтрализовать этот тяжкий, беспощадный приговор, Белинский писал далее: «Однако же не будем слишком поспешны и опрометчивы в наших суждениях, предоставим времени решить этот запутанный вопрос… Пусть скажут, что это пристрастие, идолопоклонство, детство, глупость, но я лучше хочу верить тому, что Пушкин мистифицирует «Библиотеку для чтения», чем тому, что его талант погас»[73].
Когда некоторым из близких друзей стало известно о «Памятнике», впоследствии вошедшем в «каменноостровский цикл», заговорили о близкой кончине поэта. Метафорическое уподобление «погасшему светилу» чаще употреблялось в смысле физической смерти, а не оскудевшего поэтического дарования. Например, о рано умершем поэте П.И. Макарове Михаил Александрович Дмитриев писал в его биографии: «Светило дней его померкло, не достигнув полудня».
М.П. Алексеев близко подошел к мысли, что Пушкин, написав «Памятник», фактически подписал себе смертный приговор: «Но, в сущности, слишком ли далеко отстояли друг от друга оба этих понятия – поэтической смерти и физического уничтожения? В сознании поэта, сохраняющего веру в свой дар, они были равнозначащи, и, разумеется, обостряли до предела мечту о всенародном посмертном признании. Естественно предположить такой ход мыслей и у Пушкина; поэтому совершенно закономерным представляется первое документальное свидетельство о «Памятнике» – письмо Александра Карамзина от 31 августа 1836 года к брату Андрею, которое пришло через месяц после цитированного выше письма его сестры.
Александр Карамзин описывал брату Андрею, как он провел день своих именин в Царском Селе: «Обедали у нас Мещерский (Сергей Иванович) и Аркадий (А.О. Россет). После обеда явились Мухановы, друзья сестер. Они оба ехали в Москву. Старший накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упавшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль[74], вздыхающим по потерянной фавории публики». Далее Карамзин, имею в виду Николая Алексеевича Муханова, сообщил: «Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна»[75].
М.П. Алексеев увязывает поэтический застой в творчестве Пушкина в последние годы его жизни с финансовым банкротством и непрекращающимися нападками критиков, что в совокупности послужило основанием для принятия рокового решения об уходе из жизни, что и явилось причиной написания «Памятника».
«Более отчетливо можно представить себе теперь, особенно после обнародования переписки Карамзиных и некоторых других документов, то угнетенное состояние духа, в котором Пушкин находился с конца лета 1836 г., в частности, в те дни, когда он набрасывал строфы своего стихотворения. И литературные, и домашние дела поэта находились в полном беспорядке. Отзывы современных ему литераторов о его новейших трудах свидетельствовали, что былая слава поэта находится на ущербе; «колеблемый треножник» готов был и вовсе быть низвергнутым во прах; зоилы и завистники – журналисты не только не понимали его творений, но и распространяли о нем клевету, пуская, например, в оборот литературных салонов и светских гостиных сравнение поэта с «угасшим светилом»; материальные его дела были близки к полному краху; тревоги и подозрения пришли в его собственную семью.
Едва ли мы погрешим против истины, если предположим, что стихотворение «Я памятник себе воздвиг» мыслилось поэтом как предсмертное, как своего рода прощание с жизнью и творчеством в предчувствии близкой кончины, потому что и самое слово «памятник» вызывало прежде всего представление о надгробии. «Кладбищенская» тема в лирике Пушкина последнего года его жизни была темой навязчивой, постоянно возвращавшейся в его сознание; подводя итог своей литературной деятельности, он тем охотнее вспоминал и о ее начале, о первых своих поэтических опытах и об оценке их ближайшими друзьями лицейских лет. Как изменилась жизнь за прошедшие четверть века! Сколь многое стало иным и в отношении к нему самому!»
В последующем, особенно в советский период, исследователи последних лет жизни поэта пытались доказать, что никакого «поэтического застоя» у Пушкина не существовало, о чем говорит, большое количество неопубликованных произведений, оконченных либо только начатых, которые были обнаружены в посмертных бумагах поэта. При этом порой ссылаются на Е.А. Баратынского, который, живя в Петербурге в январе-марте 1840 г., часто бывал у Жуковского и вместе с ним просматривал пушкинские рукописи, готовившиеся к изданию, «…был у Жуковского, – писал Баратынский жене. – Провел у него часа три, разбирая ненапечатанные новые стихотворения Пушкина. Есть красоты удивительной, вовсе новых и духом, и формою. Все последние пьесы отличаются – чем бы ты думала? – силою и глубиною. Он только что созревал».
К сожалению, Баратынский не назвал конкретно ни одного произведения, чтобы последующие исследователи смогли определить, относится ли это творение к «последним пьесам». Даже, если Баратынский сделал столь оптимистический вывод на основании пушкинской датировки, это еще ни о чем не говорит, поскольку только одному Пушкину было известно, когда фактически было написано то, или иное произведение. Тем не менее, среди неопубликованных произведений имелось несколько стихотворений, написанных непосредственно перед смертью поэта, в том числе «Я памятник себе воздвиг…».
А.А. Краевский[76] сообщал М.П. Погодину в Москву из Петербурга 23 мая 1837 г.: «В бумагах Пушкина найдено множество отдельных стихотворений, конченных и неконченных, отрывков в прозе, выписок для истории Петра. Все это сбережено, переписано, перемечено и хранится вместе с подлинниками у Жуковского. Может быть, все будет издано, – говорю может быть, потому что это зависит от высшего разрешения». Лишь несколько произведений было отобрано Жуковским для помещения в ближайших томах «Современника» (правда, среди них оказались такие крупные вещи, как «Медный всадник», «Сцены из рыцарских времен», «Русалка», «Египетские ночи», ряд лирических стихотворений), но «Памятника» среди них не было. Вскоре Жуковский уехал за границу и дальнейшая работа по подготовке рукописей Пушкина к печати остановилась до начала 1840 г. Только в первые месяцы этого года, когда Жуковский возобновил свои работы над пушкинскими рукописями и с помощью друзей приступил к осуществлению издания дополнительных томов к посмертному Собранию сочинений Пушкина, сведения о еще не опубликованных его стихотворениях, в том числе и о «Памятнике», стали заново распространяться среди литераторов; тогда же с него могли быть сняты и списки»[77].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Тайна болезни и смерти Пушкина"
Книги похожие на "Тайна болезни и смерти Пушкина" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Костин - Тайна болезни и смерти Пушкина"
Отзывы читателей о книге "Тайна болезни и смерти Пушкина", комментарии и мнения людей о произведении.