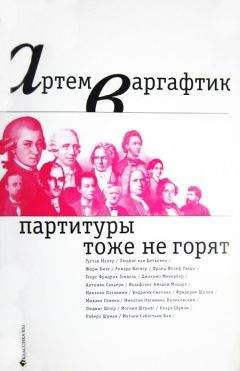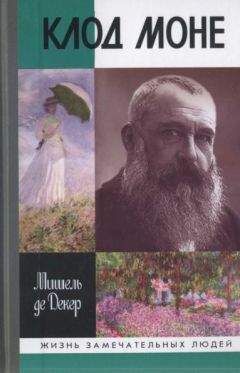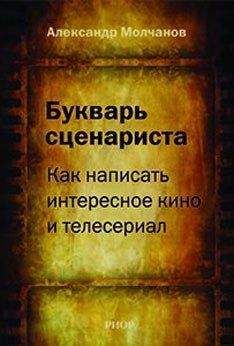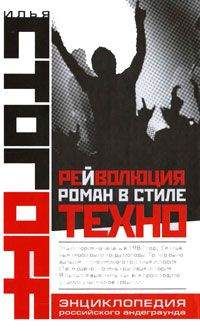Нина Молева - Баланс столетия
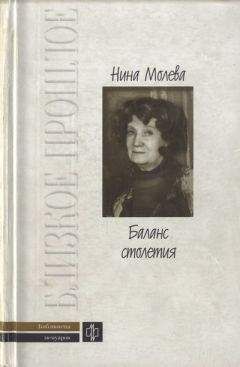
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Баланс столетия"
Описание и краткое содержание "Баланс столетия" читать бесплатно онлайн.
«Баланс столетия» — это необычайно интересное мемуарное повествование о судьбах той части русской интеллигенции, которая не покинула Россию после Октябрьского переворота, хотя имела для этого все возможности, и не присоединилась к «исходу 70-х годов». Автор книги — известный искусствовед, историк и писатель Н. М. Молева рассказывает о том, как сменявшиеся на протяжении XX века политические режимы пытались повлиять на общественное сознание, о драматических, подчас трагических событиях в жизни тех, с кем ассоциировалось понятие «деятель культуры».
«Милый друг Иван Егорович! — писала Г. Н. Федотова И. Е. Гриневу в 1896 году. — Спасибо за письмецо и ласку, что не забываешь старуху. Думать о своем прошлом после кончины Саши (ее мужа, А. Ф. Федотова) нету сил, а ты приписал: „Мадемуазель Люси Позняковой“, и так сразу на душе потеплело. Вспомнился домик Филиппа Александровича и Варвары Владимировны у Пресненских прудов, где мы так славно в 16 лет у елки веселились, и сад у Михаила Семеновича [Щепкина] в Мещанской, где в горелки бегали и малину щипали. И матушку твою красавицу как сейчас перед глазами вижу… Твоя Гликерия Федотова».
Матушку, супругу Георгия Васильевича, звали Анастасия Федоровна. Ее почти миниатюрный портрет хранился в кабинете сына. На обороте стояла авторская подпись «П. Федотов». (О родстве художника с Федотовыми «с Пресни» неизвестно. Вероятно, они просто однофамильцы.)
Юная женщина в глубоком трауре. Почти суровый открытый взгляд. Припухшие губы. Широкий разлет бровей. Темные, чуть раскосые глаза. Высокий чистый лоб. И единственная дань моде — у виска завиток черных, как вороново крыло, гладко зачесанных волос. Чувство затаенной обиды. И растерянности.
Вдовушка. Сходство с другим портретом кисти этого же художника было неотразимым. По образу. И по деталям — так же написан завиток на портрете поэтессы Евдокии Растопчиной, который называется «Вдовушка». Художник в тот раз вынужден был приехать в Москву из-за вдовства любимой сестры, «востроглазой Любочки». Внезапная кончина мужа, мелкого чиновника Сиротского суда Василия Ильича Вишневского, оставила ее без средств к существованию. С малолетним сыном и на последнем месяце беременности.
Судьба Анастасии Федоровны оказалась сколком с судьбы Любочки. Замужество в шестнадцать лет. Первенец Василий, родившийся в 1843 году. Иван, появившийся на свет тремя годами позже. Дочь Ираида, не успевшая увидеть отца.
Георгий Васильевич и покойный В. И. Вишневский могли знать друг друга по службе. А повторившаяся в Гриневской семье трагедия сестры вряд ли оставила равнодушным художника. Сам Павел Андреевич Федотов год спустя умер в больнице для душевнобольных. Из последних ясных воспоминаний сохранялись долгие разговоры с Гоголем в доме Ростопчиных: «Приятно слушать похвалу от такого человека! Это лучше всех печатных похвал!»
Федотовы «с Пресни» и Гриневы «с Красносельской» несколько раз в году наносили друг другу визиты, брали с собой детей. У Федотовых Иван Егорович увидел свою ровесницу Люси Познякову, ученицу театрального училища, которую на правах невесты сына привозила в свой дом на праздники Варвара Владимировна. Ее сценическое будущее никого не пугало. Наоборот, в театре супруги Федотовы видели единственное спасение для своего сына Александра Филипповича. Его участие в студенческих волнениях могло оказаться роковым.
Осенью 1861 года он стал одним из организаторов сходки протеста московских студентов по поводу закрытия правительством Петербургского университета и манифестации на могиле Грановского. Вместе со своими товарищами Александр Федотов был арестован, а затем исключен из университета. Выступившие в защиту арестованных без малого шестьсот студентов были жестоко избиты полицией. Александру едва исполнился двадцать один год.
Союзу юных влюбленных, против которого не возражали родители жениха, мешало лишь одно обстоятельство: Люси Познякова еще не закончила училище и потому не могла рассчитывать на необходимое для актрисы казенной сцены разрешение начальства на брак. Ни родителей своих, ни родных Люси Познякова не знала. В ее памяти сохранились лишь тень отца и некая красивая богатая дама, определившая ее в немецкий дорогой пансион «под именем Позняковой». Реальностью оставалась лишь няня Мавра Егоровна. Деньги на обучение перестали поступать только в момент зачисления молодой актрисы в труппу с очень высоким окладом, о котором хлопотал сам Щепкин. Люси с капризной ноткой отметила в дневнике, что в доме у Пресненских прудов переднюю называют лакейской, хотя никаких лакеев нет, а две служанки и некрасивы, и неопрятны.
В ту зиму 1862/63 года, перед выпуском Люси, Ваня Гринев бывал у Федотовых и без Анастасии Федоровны. Весной Люси и Александр обвенчались, перебрались в собственную маленькую квартирку в Глинищевском переулке, а потом уехали за границу. В бумагах Ивана Егоровича сохранились афишки бенефисов Гликерии Николаевны Федотовой: 5 октября 1864-го — «Ромео и Джульетта», 15 октября 1865-го — «Много шума из ничего», 4 ноября 1866-го — «Ересь в Англии» П. Кальдерона.
А спустя сто с лишним лет внук И. Е. Гринева нашел среди вещей домашнего музея бархатную коричневую душегрейку с приколотой запиской о том, что в этой душегрейке отыграла в последний раз Гликерия Николаевна свою Катерину в «Грозе» А. Н. Островского. Роль была любимой. Расставалась с ней актриса трудно. Может быть, не захотела больше видеть костюма. Рядом лежали концертные перчатки и веер, с которым, как свидетельствовала другая записка, она играла 19 ноября 1869 года в пьесе А. Дюма-отца «Мадемуазель де Бель-Иль». И две шитые гладью потертые наволочки с подушек, которые для удобства подкладывали не оставлявшей уже кресла парализованной актрисе.
Внук передал эти вещи в Бахрушинский музей. К дару прибавилась и черная кружевная концертная блузка Федотовой, приобретенная Гриневым на благотворительном аукционе в пользу приюта для престарелых актеров.
«…Вспомнила рассказы о празднике Монте-Кристо каком-то, — писала Г. Н. Федотова И. Е. Гриневу в 1896 году, — где наш добрейший Федор Карлович [Вальц] отличился. Вас по молодости туда не пустили, и вы из экипажа сквозь решетку смотрели. Кто-то из братьев Саши [А. Ф. Федотова] тебя туда возил».
Праздник назывался «Ночь графа Монте-Кристо» и был устроен Москвой в честь впервые приехавшего в старую столицу Александра Дюма-отца в саду «Эльдорадо» (в конце улицы Новослободской). После выхода в свет романа «Учитель фехтования» (о декабристе Анненкове и француженке-модистке Полине Гебль) Николай I запретил пускать Дюма в Россию. Но когда императора не стало, исчез и запрет на «Учителя фехтования». Москва могла дать волю своим восторгам. А. Дюма признался сыну, что если бы раньше попал в эту удивительную страну, иначе написал бы своего «Монте-Кристо».
В «Эльдорадо» было всё. Несколько оркестров и в том числе военных. Разнообразные хоры — русские, тирольские, цыганские и пр. На пруду гондолы с итальянскими певцами. Но главное — световые и пиротехнические эффекты, придуманные не знавшим соперников в своем деле «машинистом»-постановщиком московской казенной сцены Федором Вальцем: впервые в Москве загоревшиеся электрические лампы (шел 1858 год), фантастический фейерверк с вензелями писателя и сценами из его романа. Юный Ваня Гринев окончательно и бесповоротно решил пойти по стопам Федора Вальца.
В ремесленническом по существу своему обучении возраст не был помехой. Всего четырьмя годами раньше приглашенный из Петербурга в Москву для оборудования сцены отстраиваемого после пожара Большого театра Федор Вальц сразу по переезде отправил своего восьмилетнего сына Карла в Дрезден: одновременно с занятиями в общеобразовательном пансионе брать уроки театрально-декорационной живописи у профессора Отто Рама из Королевского оперного театра. В десять лет Карл Вальц стажировался у профессора Берлинского королевского театра Карла Гроппиуса, а в пятнадцать был принят в штат художником-декоратором Большого театра. Ваня Гринев стал помогать второму машинисту московской казенной сцены — Тимофееву. У Вальца-старшего удавалось учиться только издали, а вскоре он умер; в 1869 году его место главного машиниста занял Карл Вальц, по-приятельски относившийся к своему московскому сверстнику.
Но при всем том, что Иван Егорович был связан с Конторой императорских театров, он не находился на положении служащего. Полученные после смерти отца средства позволяли сохранять независимость, которой Гринев очень дорожил. Унаследованная им земля росла в цене: Москва менялась, заметно менялись и окрестности Красного пруда. В 1862 году рядом с Николаевским вокзалом появилось первое здание Ярославского вокзала, которое в начале XX века сменило другое, построенное по проекту Ф. О. Шехтеля. В конце 1870-х годов от площади вокзалов до Красносельской была высажена аллея из двухсот специально привезенных голландских лип. От Гаврикова переулка до нынешней Стромынки ее продолжили садовые дорожки, обсаженные шестью с половиной сотнями берез вперемежку с редкими липами. Через десять лет по бывшему тракту пошла конка — от Сухаревой башни до Богородского, а в начале XX столетия — трамваи. Появились булыжная мостовая, керосиновые фонари. Гриневы не расставались с принадлежавшими им земельными участками — откуда и пошло название «Гриневская крепость» — и стали строить на них доходные дома. Поэтому Иван Егорович мог себе позволить так сближавшее его с Карлом Вальцем увлечение — собирательство.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Баланс столетия"
Книги похожие на "Баланс столетия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Нина Молева - Баланс столетия"
Отзывы читателей о книге "Баланс столетия", комментарии и мнения людей о произведении.